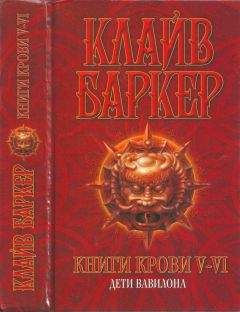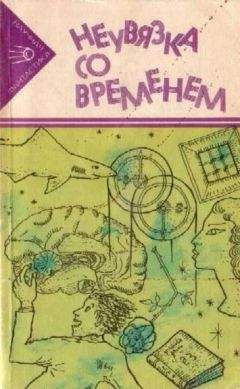— Я не говорю, что этого не может быть, я просто…
— Ему глаза выкололи, — добавила Энн-Мари, прежде чем Элен снова выразила сомнение.
Элен содрогнулась.
— О нет, — беззвучно прошептала она.
— Именно так, — продолжала Энн-Мари. — И это не все, что с ним сделали.
Она для эффекта сделала паузу, затем продолжила:
— Вы думаете, кто же способен на такое? Правда? Думаете?
Элен кивнула Она думала именно об этом.
— Хотя бы виновного нашли?
Энн-Мари хмыкнула с пренебрежением.
— Полиции наплевать, что у нас творится. Они стараются, насколько возможно, держаться подальше от этого места. Когда патруль приезжает, они забирают пьяных подростков и тому подобное. Видите ли, они боятся. Поэтому держатся в стороне.
— Боятся убийцы?
— Может быть, — ответила Энн-Мари. — Ведь у него крюк.
— Крюк?
— У человека, который это сделал. У него крюк, как у Джека Потрошителя.
Элен не разбиралась в убийствах, но была уверена: то, что делал своим крюком Потрошитель, вовсе не заслуживает похвалы. Однако подвергать сомнению правдоподобие истории Энн-Мари было занятием неблагодарным, хотя про себя Элен размышляла, какие из деталей — выколотые глаза, гниющее в квартире тело, крюк — прибавлены для полноты сюжета Даже самые добросовестные рассказчики изредка испытывают искушение что-то приукрасить.
Энн-Мари налила себе еще чашку и потянулась к чашке Элен.
— Нет, спасибо, — покачала головой та. — Я все-таки пойду.
— Вы замужем? — спросила Энн-Мари неожиданно.
— Да. За преподавателем университета.
— Как его зовут?
— Тревор.
Энн-Мари положила себе в чашку две полные ложки сахару.
— Вы вернетесь?
— Да. Надеюсь. На этой неделе. Я хочу сделать несколько снимков в доме, что на другом конце двора.
— Хорошо. Заходите.
— Зайду. И спасибо вам за помощь.
— Не за что, — ответила Энн-Мари. — Вы должны рассказать кое-кому, так ведь?
— По-видимому, у человека вместо руки крюк.
Тревор оторвал взгляд от своей тарелки с tagliatelle con prosciutto[1].
— Прости, как?..
Элен изо всех сил старалась пересказать историю так, чтобы не окрашивать ее субъективными чувствами. Ее интересовало, как это истолкует сам Тревор. Но если она хоть чем-то выдаст собственную заинтересованность, Тревор в силу своего скверного характера инстинктивно займет противоположную позицию.
— У него есть крюк, — ровным голосом повторила она.
Тревор положил вилку и потянул себя за нос, фыркнув.
— Ничего о таком не читал, — сказал он.
— Ты не читаешь местные газеты, — возразила Элен. — Никто из нас не читает. Возможно, никто в стране.
— Заголовок: «Старик убит маньяком с рукой-крюком!» — произнес Тревор, наслаждаясь. — Кажется, годится для новостей. Когда предположительно все произошло?
— Прошлым летом. Может быть, когда мы были в Ирландии.
— Возможно, — отозвался Тревор, вновь берясь за вилку. Нацеленные на еду блестящие линзы его очков скрывали глаза, отражая тарелку с макаронами и нарезанную ветчину.
— Почему «возможно»? — поддела его Элен.
— Это не совсем правдоподобно, — сказал он. — По правде сказать, это звучит чертовски нелепо.
— Ты не веришь? — спросила Элен.
Тревор поднял взгляд от тарелки, языком слизнул кусочек лапши в углу рта. Лицо его приняло свойственное ему уклончивое выражение — без сомнения, такое лицо он делал, когда слушал своих студентов.
— А ты веришь? — Это был излюбленный прием Тревора, чтобы выиграть время, еще один профессорский фокус — вопрос спрашивающему.
— Не до конца, — ответила Элен, слишком озабоченная поиском хоть какой-то опоры в море сомнений, чтобы тратить силы на соревнование с ним.
— Хорошо, оставим сам рассказ, — произнес Тревор, прерывая процесс еды, чтобы выпить еще один бокал красного вина. — А как насчет рассказчицы? Ей ты веришь?
Элен представила искреннее выражение на лице Энн-Мари, когда та рассказывала о смерти старика.
— Да, — сказала она. — Да. Думаю, я бы поняла, если бы мне лгали.
— В любом случае, почему так важно, лжет она или нет? Какого хрена, что нам за дело?
Резонный вопрос, пусть даже задан он с раздражением. Почему же это действительно важно? Потому что Элен хотела, чтобы худшие ощущения от Спектор-стрит оказались ложными? Район грязного отчаявшегося сброда, где лишних неудачливых людей прятали от глаз чистой публики; но это либеральная банальщина, и Элен принимала положение дел как неприятную социальную реальность. Однако в рассказе об убийстве старика и издевательствах над ним таилось нечто другое. Образ насильственной смерти, однажды явившись, теперь преследовал Элен.
Она поняла, к собственной досаде, что растерянность ясно написана у нее на лице и что Тревор, наблюдая за ней через стол, немало потешается.
— Если это так сильно тебя волнует, — заговорил он, — почему бы не вернуться и не порасспросить людей в округе, вместо того чтобы играть за обедом в «веришь-не-веришь»?
При этом его замечании она не могла сдержаться.
— Я думала, тебе нравится играть в загадки, — сказала она.
Он бросил на нее сердитый взгляд.
— Опять ошибаешься.
Начать расследование — неплохое предложение, хотя оно явно порождено какими-то скрытыми причинами. День ото дня Элен смотрела на Тревора все менее снисходительно. То, что раньше она принимала за готовность к дискуссии, теперь казалось простой игрой «кто сильнее». Он спорил не из-за диалектического возбуждения, а из-за патологической склонности к соревнованию. Она видела, как раз за разом он занимает чуждые ему самому (Элен знала об этом) позиции, просто чтобы разогреть кровь. Еще более печально, что он — не единственный, кто занимался такого рода спортом Академия была одним из последних оплотов профессиональных транжиров времени. Так случилось, что в их кругу преобладали образованные дураки, заблудившиеся в пустыне затхлой риторики и бесплодных занятий.
От одной пустыни к другой. Она вернулась на Спектор-стрит на следующий день, вооруженная фотовспышкой в дополнение к штативу и высокочувствительной пленке. В тот день поднялся ветер, и это был ветер арктический, ярившийся все сильнее оттого, что заблудился в лабиринте проходов и дворов. Элен направилась к номеру 14 и провела целый час в его оскверненных пределах, тщательно фотографируя стены спальни и гостиной. Она ожидала, что воздействие образа в спальне при повторном осмотре станет значительно слабее; этого не произошло. Хотя она старалась запечатлеть и целое, и детали как можно тщательнее, она знала: фотографии в лучшем случае будут лишь слабым эхом его бесконечного вечного рева.