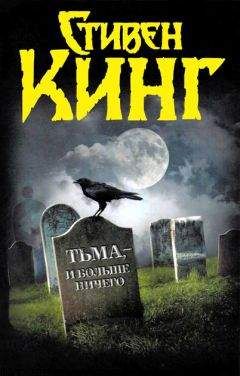В грядущем 2030 году счастливы будут только крысы.
«Это же сущая мелочь», — сказал мне Харлан в тот день, когда я предложил ему купить землю Арлетт, но в итоге мне пришлось продать эти сто акров Коулу Фаррингтону еще дешевле. Эндрю Лестер, адвокат, принес все бумаги в пансион в Хемингфорд-Сити, где я тогда жил, и улыбался, когда я их подписывал. Разумеется, улыбался. Большие шишки всегда выигрывают. Это я по глупости думал, что бывает иначе. И из-за моей глупости всем, кого я любил, пришлось заплатить высокую цену. Я иногда задаюсь вопросом: вернулась ли Салли к Харлану или он поехал к ней в Маккук, когда потерял ферму? Этого я не знаю, но, думаю, смерть Шеннон скорее всего разрушила эту ранее счастливую семью. Яд растворяется, как чернила в воде.
Тем временем крысы, сидевшие у плинтусов, пришли в движение. Квадрат превратился в более узкий круг. Они знали, что это уже лишь послесловие, а послесловие не так и важно в сравнении с основным текстом. Однако я закончу. И я не дамся им, пока жив. Эта последняя маленькая победа будет за мной. Мой старый коричневый пиджак висит на спинке стула, на котором я сижу. В кармане лежит пистолет. Дописав несколько последних страниц, я им воспользуюсь. Говорят, самоубийцам и убийцам прямая дорога в ад. Если так, я там не потеряюсь, ведь последние восемь лет уже находился в аду.
Я поехал в Омаху, и если это действительно город дураков, как я всегда говорил, тогда я намеревался стать идеальным гражданином. Сначала пропивал деньги, полученные за сто акров Арлетт, и пусть это была сущая мелочь, но ее хватило на два года. Когда не пил, посещал те места, где побывал Генри в последние месяцы своей жизни: бакалею и заправку в Лайм-Биске с девочкой в синем чепчике на крыше (заведение это уже закрылось, а на заколоченной двери висело объявление: «ПРОДАЕТСЯ БАНКОМ»), ломбард на Додж-стрит (где я последовал примеру сына и купил пистолет, который теперь лежит в кармане моего пиджака), отделение Первого сельскохозяйственного банка в Омахе. Симпатичная молодая кассирша все еще там работала, правда, сменила фамилию Пенмарк на другую, по мужу.
— Когда я передала ему деньги, он меня поблагодарил, — сказала она мне. — Может, он пошел по кривой дорожке, но кто-то хорошо его воспитал. Вы его знали?
— Нет, — ответил я, — но я знал его семью.
Разумеется, я пошел к католическому дому при монастыре Святой Евсевии, но не предпринял попытки войти туда и навести справки о Шеннон Коттери у старшей воспитательницы, или матроны, или как там она себя называла. Здание казалось мрачным и отталкивающим, с толстыми каменными стенами и узкими окнами. Одного взгляда на нескольких беременных, с поникшими плечами выходивших из дома, опустив глаза, мне вполне хватило, чтобы понять, почему Шеннон не терпелось покинуть это заведение.
Как ни странно, в проулке я буквально почувствовал присутствие сына. Он словно находился рядом с «Аптечным магазином и прилавком газировки на Гэллатин-стрит» («Наш фирменный товар — леденцы Шраффта и лучшие домашние молочные ириски»), в двух кварталах от католического дома при монастыре Святой Евсевии. У проулка стоял ящик, вероятно, слишком новый, чтобы быть тем самым, на котором сидел Генри, дожидаясь рисковой девушки, готовой обменять информацию на сигареты, но я мог представить, что тот самый, и не отказал себе в удовольствии. Пьяному не составляло труда представить такое, а на Гэллатин-стрит я обычно приходил очень пьяным. Иногда воображал, будто на дворе вновь 1922 год и это я жду Викторию Стивенсон. И если бы она пришла, я бы обменял целый блок сигарет на одну записку:
Когда молодой человек, который называет себя Хэнком, появится здесь, спрашивая о Шеннон Коттери, попроси его уйти. Скажи, что здесь ему делать нечего. Скажи, что отец ждет его в амбаре на ферме, что вдвоем они что-нибудь придумают и выправят ситуацию.
Но ту девушку я найти уже не мог. Единственная Виктория, которую я встретил позже, заметно повзрослела, родила трех очаровательных детей и стала респектабельной миссис Холлет. Я к тому времени перестал пить, нашел работу на «Пошивочной фабрике Билт — Райта» и завел знакомство с бритвой и мылом для бритья. Учитывая налет респектабельности, она приняла меня достаточно тепло. Я признался ей, кто я, только потому — если я хочу быть честным до конца, — что врать не имело смысла. По ее чуть расширившимся глазам я понял, что она заметила мое сходство с Генри.
— Слушайте, он был такой милый. И безумно влюбленный. И Шен мне так жалко. Отличная была девушка. Это прямо-таки шекспировская трагедия, так?
Возможно, и шекспировская, только после разговора с Викторией я больше не возвращался к проулку на Гэллатин-стрит, поскольку для меня убийство Арлетт отравило даже попытку этой безупречной молодой дамы из Омахи сделать доброе дело. Она воспринимала смерть Генри и Шеннон как шекспировскую трагедию. Она думала, что это романтично. И я задаюсь вопросом: не возникли бы у нее другие мысли, если б она услышала, как моя жена кричит в надетом на голову, пропитанном кровью джутовом мешке? Или увидела бы лишенное глаз и губ лицо моего сына?
За годы, прожитые в Городе-Воротах,[28] также известном, как Город Дураков, я работал в двух местах. Вы скажете, разумеется, что я держался за работу, иначе оказался бы на улице. Но люди более честные, чем я, продолжали пить, даже когда хотели остановиться, и люди более достойные, чем я, заканчивали тем, что спали в подворотнях. Полагаю, могу сказать, что после потерянных лет я предпринял еще одну попытку начать новую жизнь. Иной раз даже в это верил, но по ночам, лежа в кровати (и слушая, как крысы скребутся в стенах — они стали моими постоянными спутниками), я всегда знал правду: я по-прежнему старался выиграть. Даже после смерти Генри и Шеннон, даже после потери фермы я старался взять верх над трупом в колодце. Над ней и ее прислужниками.
Джон Ханрэн, бригадир склада «Пошивочной фабрики Билт — Райта» поначалу не хотел нанимать человека с одной рукой, но я уговорил его взять меня на испытательный срок. И когда он убедился, что я способен катить тележку, нагруженную рубашками или комбинезонами, не хуже любого другого, работу я получил. Я катал эти тележки четырнадцать месяцев и, часто прихрамывая, возвращался в пансион, не обращая внимания на горевшие огнем спину и культю. Я никогда не жаловался, даже находил время, чтобы учиться шить. Это я делал во время обеденного часа (на самом деле он составлял пятнадцать минут) и в перерыве во второй половине дня. Пока другие мужчины сидели на разгрузочной площадке, курили и рассказывали похабные анекдоты, я учился отстрачивать швы — сначала на джутовых мешках, которые мы использовали, потом на комбинезонах, которые являлись основной продукцией фабрики. Как выяснилось, у меня к этому имелось призвание. Я мог даже вшить молнию, что умели далеко не все работники пошивочного цеха. Материал я прижимал культей, а ногой давил на педаль, включавшую подачу электричества к швейной машинке.