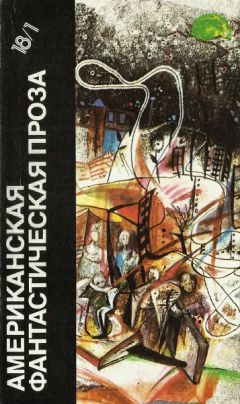— Новые новости! — воскликнула Фанни, широко раскрыв глаза. — Откуда ты-то ее знаешь? И вообще это ни к чему! Мой дом здесь! Если я отсюда уеду, я пропала — умру, и все. Здесь мои пластинки.
— Мы возьмем их с собой.
— А книги?
— И книги заберем.
— И майонез у меня особый, у нее такого нет.
— Я куплю.
— У нее нет места.
— Даже для тебя, Фанни, места у нее хватит.
— А что же будет с моим пестрым котом?
Это продолжалось до тех пор, пока я не услышал, как внизу прижался к поребрику лимузин.
— Ну так как, Фанни?
— Теперь, раз ты здесь, уже все хорошо. Когда будешь уходить, загляни к миссис Гутиеррес, попроси ее немножко посидеть со мной, — бодро проговорила Фанни.
— Откуда этот наигранный оптимизм? Ведь час назад ты считала, что приговорена к смерти?
— Дорогой мой, Фанни в полном порядке. Эта гадина больше не вернется. Я чувствую, и к тому же…
И, как по заказу, в эту минуту весь огромный дом содрогнулся во сне.
Створки двери в комнате Фанни жалобно заскрипели.
Как подстреленная, и на этот раз подстреленная насмерть, Фанни приподнялась в кресле и чуть не задохнулась от ужаса.
Я мигом пересек комнату, распахнул дверь и высунулся в длинный, как долина реки, коридор — миля в одну сторону, миля в другую, — от него расходились бесконечные черные туннели, по которым потоком струилась ночная тьма.
Я прислушивался, но улавливал лишь, как потрескивает штукатурка на потолке и елозят в дверных проемах двери. Где-то журчал и урчал, ведя свою нескончаемую речь в ночи, унитаз, этот холодный белый фарфоровый склеп.
В коридоре, разумеется, никого не было.
Тот, кто был здесь раньше, если действительно кто-то был, быстро прикрыл за собой дверь или куда-то убежал — либо вперед, либо назад. Туда, откуда невидимым потоком вливалась ночь — длинная, извивающаяся река с веющим над ней ветром, навевающим воспоминания обо всем, что было здесь съедено, обо всем, что было выброшено, обо всем, что было таким желанным и в чем больше не было нужды.
Мне хотелось прокричать темным коридорам то же, что я собирался выкрикнуть ночному берегу перед арабской цитаделью Констанции Реттиген:
— Убирайтесь! Оставьте нас в покое. Может, по-вашему, мы и заслужили смерть, но мы не хотим умирать!
Однако, обращаясь в пустоту, я крикнул другое:
— Так, ребятки! Порезвились и хватит! Ступайте, ступайте! Брысь! Вот молодцы! Доброй ночи!
Я подождал, пока несуществующие ребятки разошлись по своим несуществующим комнатам, вернулся к Фанни, прислонился к притолоке и, фальшиво улыбаясь, закрыл дверь.
Трюк сделал свое дело. Или Фанни притворилась, что поверила мне.
— Из тебя выйдет хороший отец, — улыбнулась она.
— Да нет, я буду как все отцы — неумный и нетерпеливый. Этих ребят надо было накачать пивом и засунуть в койки давным-давно. Ну что, Фанни? Лучше тебе?
— Лучше, — вздохнула она и закрыла глаза. Подойдя к ней, я обхватил ее руками, что было сродни полету Линдберга[125] вокруг земного шара под восторженные вопли толпы.
— Все рассосется, — сказала Фанни. — Ты теперь иди. Все в порядке. Ты же сам сказал — ребятишки уже в кроватях.
«Какие ребятишки?» — чуть не ляпнул я, но прикусил язык. Ах да, ребятишки.
— В общем, с Фанни все благополучно, и ты иди домой. Бедняжка. Поблагодари Констанцию, но скажи ей от меня: «Нет, спасибо». Пусть приедет ко мне в гости. Миссис Гутиеррес обещала переночевать у меня. Она может спать на этой кровати, — представляешь, я не сплю на ней уже тридцать лет! Не могу лежать на спине, задыхаюсь. Словом, миссис Гутиерpec придет сюда, а ты, мой дорогой, был очень добр, что зашел. И я знаю, что ты вообще очень добрый, ты просто не хотел меня расстраивать, вот и не сказал, что наши друзья внизу умерли.
— Да, Фанни, поэтому.
— Но в их смертях не было ничего необычного, верно?
— Нет, Фанни, — солгал я. — Всему виной только глупость, изменившая красота и уныние.
— Господи! — воскликнула Фанни. — Изъясняешься как лейтенант с мадам Баттерфляй.
— Потому-то мальчишки и лупили меня в школе.
Я двинулся к двери. Фанни глубоко вздохнула и внезапно сказала:
— Если со мной что-нибудь случится — совершенно не обязательно, но вдруг! Загляни в холодильник!
— Куда?
— В холодильник, — с загадочным видом повторила Фанни. — Сейчас не смей!
Но я уже дернул дверцу и уставился в освещенное нутро. На меня смотрели ряды банок — желе, джемы, соусы, майонез. Обведя их долгим взглядом, я захлопнул холодильник.
— Я же просила не смотреть сейчас, — упрекнула меня Фанни.
— Мне ждать некогда. Я должен знать.
— Ну а я теперь ничего тебе не скажу, — вспылила она. — Нечего было подглядывать! Я как раз собиралась признаться, что это, может, по моей вине нечисть пробралась в дом.
— Нечисть, Фанни? Какая нечисть?
— Ну вся эта мерзость, которую, как мне казалось, ты приволок сюда на своих подошвах. Только, может, это дело рук Фанни. Может, я сама во всем виновата, может, я зазвала эту гадость с улицы.
— Так зазвала или нет? — взревел я, наклонившись над ней.
— Ты меня больше не любишь?
— Люблю, черт побери! Я же хочу вытащить тебя отсюда, а ты не даешься. Обвиняешь меня, что я отравил вам тут уборные, теперь заставляешь исследовать холодильник. Господи Иисусе, Фанни!
— А теперь лейтенант рассердился на Баттерфляй. — Из глаз Фанни выкатились слезы.
Больше я вынести не мог.
Я открыл дверь.
Перед ней стояла миссис Гутиеррес — наверно, она уже давно стояла за дверью и, как всегда, будучи дипломатом, держала в руках тарелку с горячими тако[126].
— Я завтра позвоню, Фанни, — пообещал я.
— Звони, конечно, и Фанни будет жива.
«Интересно, — думал я, — если я крепко зажмурюсь и притворюсь, что я слеп. Найду ли я комнату Генри?»
* * *
Я постучался к Генри.
— Кто это? — отозвался он из-за запертой двери.
— Кто это спрашивает «кто это»? — сказал я.
— Кто это спрашивает, кто это спрашивает «кто это»? — Генри не выдержал и рассмеялся, потом вспомнил, что он расшибся. — Ты, значит.
— Впусти меня, Генри!
— Да я нормально. Ну, слетел с лестницы, и все дела. Ну, чуть не убился до смерти, эка важность. Дайте мне тут отлежаться взаперти. А завтра я выйду. Ты добрый парень — вон беспокоишься, жив ли я.
— Генри, как это случилось? — спросил я запертую дверь.
Генри подошел ближе. Я почувствовал, что он прислонился к двери с другой стороны, словно исповедующийся перед окошечком священника.