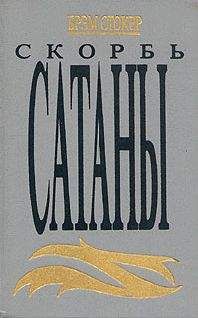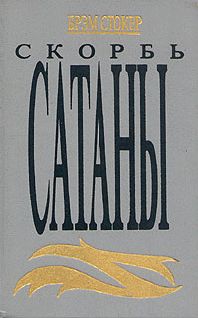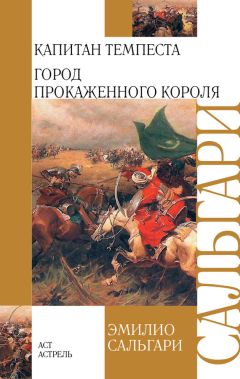Впрочем, когда м-р Мэквин оракульским слогом, которым он отличался, объявил меня своей «находкой», несколько других литературных джентльменов выступило вперед и написало обо мне громкие статьи, прислав мне свои сочинения, старательно отмеченные. Я понял намек, тотчас ответил им благодарственным письмом и пригласил к себе обедать. Они явились и по-царски пировали со мной и Риманцем (один из них потом написал в мою честь «Оду»), и в заключение кутежа мы отослали двоих из них домой, в карете с Амиэлем, чтобы присмотреть за ними и помочь им найти свою дверь. И мое рекламирование распространялось, и Лондон говорил обо мне; рычащее чудовище – столица обсуждала меня и мой труд своей особенной независимой манерой. «Верхние десять» подписывались в библиотеке, но эти удивительные учреждения, сделав две или три сотни экземпляров на весь спрос, держали подписчиков в ожидании пяти-шести недель, пока те не уставали спрашивать книгу и совсем не забывали о ней. Исключая библиотеки, публика не поддерживала меня.
Благодаря блестящим отзывам, появлявшимся во всех газетах, можно было бы предположить, что «все, кто был чем-нибудь», читали мое «изумительное» произведение. Но на самом деле было иначе: обо мне говорили, как о «великом миллионере», а публика оставалась равнодушна к тому, что я дал для литературной славы. Всюду, куда б я ни пришел, меня встречали со словами: «Не правда ли вы написали роман? Что за странная мысль пришла вам в голову!» – и со смехом: «Мы не прочли его: у нас так мало времени; но мы непременно спросим его в библиотеке». Конечно, большинство никогда его и не спрашивало, считая его, по всей вероятности, не заслуживающим их внимания. И я, чьи деньги с неодолимым влиянием Риманца, вызывали милостивую критику, запрудившую прессу, нашел, что большая часть публики никогда не читает критики. Поэтому и мой анонимный пасквиль на книгу Мэвис Клер не отразился на ее популярности. Это была напрасная работа, так как везде на эту женщину-автора продолжали смотреть, как на выходящее из ряда вон существо, и ее книгу продолжали спрашивать и восхищаться ею, и она продавалась тысячами, без всяких милостивых решений или кричащих реклам. Никто не догадался, что это я написал то, что я теперь признаю грубым, пошлым извращением ее труда, – никто, кроме Риманца. Журнал, в котором я поместил мою статью, был одним из самых распространенных и находился в каждом клубе и библиотеке, и, случайно взяв его, однажды он тотчас заметил статью.
– Вы написали это! – сказал он, пристально глядя мне прямо в глаза. – Должно быть, это для вас послужило большим облегчением!
Я ничего не сказал.
Он прочитал молча; потом положил журнал и опять посмотрел на меня с испытующим странным выражением.
– Многие человеческие существа так устроены, – проговорил он, – что если б они были с Ноем в ковчеге, они бы застрелили голубя, принесшего оливковую ветвь, едва он показался бы над водой. Вы из этого типа, Джеффри.
– Я не понимаю вашего сравнения, – пробормотал я.
– Не понимаете; какое зло вам сделала эта Мэвис Клер? Ваши положения совершенно различны. Вы – миллионер, она – труженица и зависит от своего литературного успеха, и вы, катаясь в богатстве, стараетесь лишить ее средства к существованию. Делает ли это вам честь? Она приобрела славу только благодаря своему уму и энергии. И даже, если вам не нравится ее книга, нужно ли оскорблять ее лично, как вы сделали в этой статье? Вы ее не знаете, вы никогда ее не видели…
– Я ненавижу женщин, которые пишут! – возразил я пылко.
– Почему? Потому, что они в состоянии жить независимо? Вы бы хотели, чтоб они все были рабами алчности или комфорта мужчины? Дорогой Джеффри, вы неблагоразумны. Если вы признаете, что завидуете славе этой женщины и оспариваете ее у нее, то я могу понять вашу досаду, так как зависть способна заставить убить своего ближнего или кинжалом или пером.
Я молчал.
– Разве эта книга плоха, как вы ее представили? – спросил он.
– Может быть, другие восторгаются ею, но я не восторгаюсь.
Это была ложь, и, конечно, он знал, что это была ложь!
Произведение Мэвис Клер возбудило во мне страшную зависть; сам факт, что леди Сибилла прочла ее книгу прежде, чем она подумала взглянуть на мою, усилил горечь моих чувств.
– Хорошо, – наконец сказал Риманец с улыбкой, окончив чтение моего памфлета, – все, что я могу сказать, Джеффри, это то, что ваши нападки ничуть не тронут Мэвис Клер. Вы зашли слишком далеко, мой друг! Публика только воскликнет: «Какой стыд!» – и еще более станет превозносить ее труд. А что касается ее самой – она имеет веселый нрав и только рассмеется. Вы должны как-нибудь ее увидеть.
– Я не желаю ее видеть, – выпалил я.
– Так. Но, живя в Виллосмирском замке, вряд ли вам удастся избегнуть встречи с нею.
– Нет необходимости знакомиться со всеми, кто живет по соседству, – заметил я надменно.
Лючио расхохотался.
– Как хорошо вы поддерживаете гордость своего богатства, Джеффри! – сказал он. – Для бедняка из плохоньких писателей, еще недавно затруднявшегося достать соверен, как великолепно вы подражаете манерам природных богачей! Меня изумляют люди, кичащиеся своим богатством перед лицом своих ближних и поступающие так, как будто бы они могли подкупить смерть и за деньги приобрести расположение Творца! Какая бесподобная дерзость! Вот я, хотя колоссально богат, но так странно устроен, что не могу носить банковские билеты на своем лице. Я претендую на разум столько же, сколько на золото, и иногда, знаете ли, в моих путешествиях вокруг света я удостаивался быть принятым за совершенного бедняка! Вам же никогда этого не удастся. Вы богаты и выглядите таковым.
– А вы, – вдруг прервал я его с горячностью, – знаете ли, как вы выглядите? Вы утверждаете, что богатство написано на моем лице. Знаете ли вы, что выражает каждый ваш взгляд и жест?
– Не имею понятия! – сказал он, улыбаясь.
– Презрение ко всем нам! Неимоверное презрение. Даже ко мне, кого вы называете своим другом. Я говорю вам правду, Лючио, бывают минуты, когда, несмотря на нашу задушевность, я чувствую, что вы презираете меня. Вы необыкновенная личность, одаренная необыкновенными талантами, однако вы не должны ожидать от всех людей такого самообладания и равнодушия к человеческим страстям, как у вас самого.
Он бросил на меня быстрый взгляд.
– Ожидать! – повторил он. – Мой друг, я ровно ничего не жду от людей. Напротив, они, по крайней мере, то, кого я знаю, ожидают всего от меня. Что же касается моего «презрения» к вам, разве я вам не говорил, что восхищаюсь вами? Серьезно! Положительно есть нечто достойное изумления в блистательном прогрессе вашей славы и быстром общественном успехе.