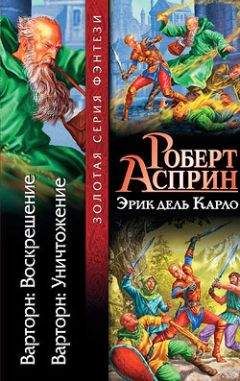— Это почему же не касаются? — возразил я. — Меня, между прочим, пригласил приятель, хозяин Волчьего замка, и попросил помочь…
— Да знаю, знаю, — оборвал он. — И тем не менее дело это, повторяю, не ваше.
— А чье же?
— Мое и… — Тут он снова не слишком доброжелательно посмотрел на Яна и его собеседников.
Клянусь, я уже почти разозлился.
— Ладно, — вкрадчиво проговорил я. — Давайте в таком случае объяснимся, святой отец: почему это вы отзываетесь о людях, вместе с которыми собрались идти на, я уж не говорю благородное, но просто — смертельно опасное предприятие, в таком оскорбительном тоне? И почему, черт возьми, вы вообще собрались на него идти?
Он меланхолично посмотрел на меня и нервно передернул плечами.
— Пути господни неисповедимы, сын мой, и порою случается так, что добрый христианин, ради достижения, как вы замечательно выразились, воистину благородной цели, бывает вынужден пойти на временный духовный компромисс и даже подвергнуть испытанию искушением диаволовым силу Духа своего и крепость Веры.
Кажется, я начал догадываться, куда он клонит.
— Понятно, и вы?..
— И я, возлюбленный сын мой, как истинный слуга господа согласен ради благого дела пожертвовать толикой своей ничтожной души и потому заключаю в данный момент краткосрочный союз с… — Он замялся.
— Яном?
Святой отец поморщился:
— Увы. Кстати, имейте в виду: я не хочу говорить об этом человеке ничего плохого, но, думаю, вы поймете. Необычный дар Яна — не от бога, и сила Яна — это какая-то другая, неведомая и не понятая мною до сих пор сила. А если я кого-то не понимаю, то я его…
— Боюсь, — кивнул я. — Знакомая формула.
Он с новым рвением принялся теребить свою бедную шляпу.
— Да нет же, все не так примитивно и однозначно. Я не боюсь его в обычном смысле этого слова… — Матовые глаза священника вдруг сверкнули. — Скажите, вы примерный христианин? — неожиданно спросил он.
Удар был ниже пояса, и я невольно смутился.
— Ну, видите ли… Не знаю, поймете ли теперь вы меня. До приезда в Волчий замок я жил… хотя быть может, скорее и по привычке, — считая себя верующим. Наверное, я и сейчас так считаю. Однако же, честное слово, святой отец, по-моему, ни разу в жизни я не ощутил на себе то, что вы и подобные вам называют промыслом божьим. Увы и ах, но мне не посчастливилось испытать благодати, везения, скорби, горя, не знаю уж чего еще, обусловленного бы не реальными, "грубыми", вполне земными, а какими-либо высшими, иррациональными, не поддающимися объяснению посредством простой человеческой логики причинами.
Представьте себе, я жил как жил, и если мне вдруг везло или не везло, пардон, в карты, — значит, я в данный вечер играл лучше либо хуже своих партнеров. Когда я бывал счастлив в любви, это также означало для меня лишь то, что я встретил женщину, способную своим обликом и умом вызвать во мне чувства и инстинкты определенного рода и в свою очередь готовую полюбить меня. А если же, увы, умирал кто-то из близких, то это тоже объяснялось совершенно реальными, а не какими-то там "небесными" аргументами. Жизнь катилась по наезженной колее, и я, повторяю, жил как жил, не ощущая на своей скромной персоне ни особой милости божьей, ни божьего гнева.
Священник рассмеялся, и мне это не слишком понравилось: по-моему, до сих пор я не сказал еще ничего смешного. Окончив смеяться, он спросил:
— Так значит, просто жизнь, нормальную, незатейливую, не отягощенную злом и дурными мыслями и поступками человеческую жизнь вы не считаете поистине самым главным проявлением промысла божьего?
Я пожал плечами:
— Возможно, не знаю… Но это, извините, уже какая-то домашняя философия.
Он снова рассмеялся, и не сказал бы, что это ему очень шло.
— Домашняя философия! А вы ждали, я буду страницами цитировать Священное писание? Да и потом, если вдуматься, чем же уж так плохо быть немного, простите, домашним философом?
Наверное, мое лицо вытянулось, причем изрядно больше обычной нормы.
— Но разве я говорил, что плохо? Просто от вас, признаюсь, ожидал проповеди чуть иного рода и поэтому…
Он поджал губы.
— Мы не на богословском диспуте, сударь, и в теологии вы мне не соперник, потому-то я и говорю с вами сейчас почти теми же самыми словами, что и со своими зачастую вовсе неграмотными прихожанами. Вероятно, когда-то я был другим, даже наверняка я был другим, как все мы в молодости. Тогда я был более жестким, непримиримым, возможно, чересчур ортодоксальным в вопросах веры и того же требовал от своей паствы. К сожалению, далеко не всегда успешно. Наверное, поэтому с годами и пришло понимание того, что воинам — не только мирским, но и духовным, — надо быть более гибкими в вопросах тактики: варьировать, видоизменять, приспосабливать собственное мировоззрение (в определенных, конечно, пределах) в расчете на образовательный, умственный, а порою даже и психический уровень своих собеседников…
— Но почему же тогда вы столь странно относитесь к Яну? — не удержался я. — Или под случай с ним ваши миссионерские теории не подходят?
Наверное, зря я был так прямолинеен — священник побледнел.
— А этот, как вы выразились, случай — совсем особый, сударь, — почти прошептал он. — И это вопрос уже не тактики, но стратегии, ибо я верую в господа нашего и всеми силами и доступными мне скромными средствами служу ему на земле… Кому служит Ян — я не знаю.
— Но позвольте, — возразил я. — Ведь я же видел на шее у него крест. И, между прочим, у него есть оружие…
— С наконечником в форме креста, знаю. И что, по-вашему, это нормально?! Да разве ж позволительно человеку, ищущему себя в боге, делать орудием убийства символ страданий сына господня!
— Но придавали же рыцари монашеских орденов крестообразную форму рукоятям своих мечей, — не сдавался я. — Или это уже не столь принципиально?
Он посмотрел на меня с искренним сожалением.
— Это принципиально, как раз это очень принципиально, сударь. Чрез крест рукояти в тела и души подвижников вливалась высшая сила. Она помогала им, вела…
— На грабежи и убийства?
— Нет, к спасению гроба господня либо способствовала обращению язычников к истинной вере. А после битв такие мечи служили воинам Христовым для укрепления духа и разговора с богом.
Я кивнул:
— Ну, это понятно. Да только не кажется ли вам лицемерием самой высшей пробы использование одного и того же предмета и для убийства, и для оперативного замаливания приобретенных посредством этого убийства грехов?
Черная шляпа запрыгала как живая.
— Нет, не кажется!