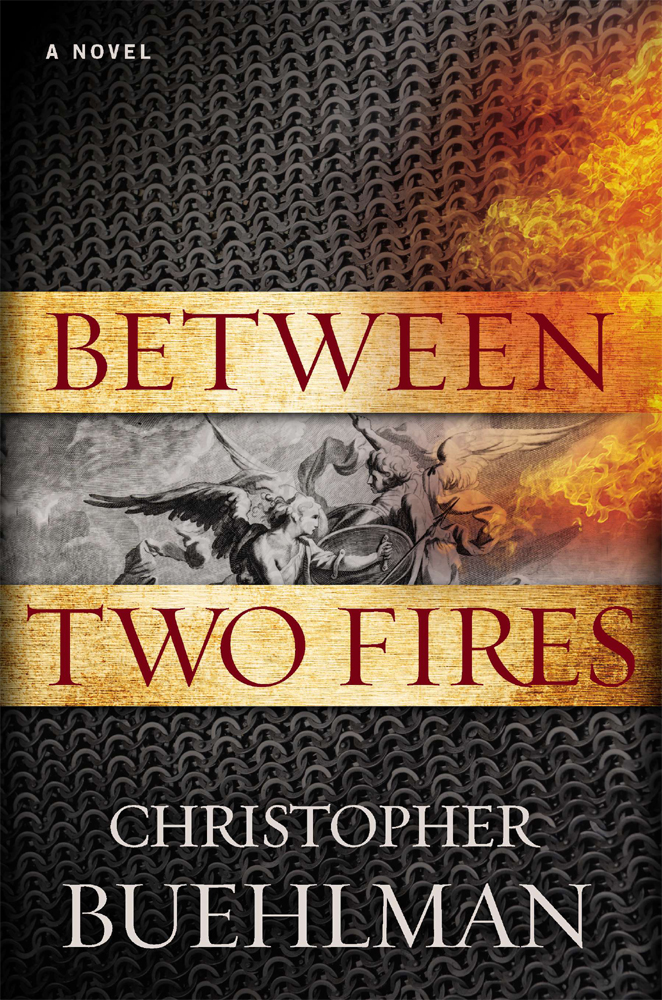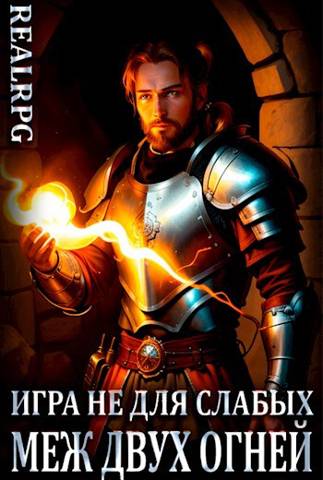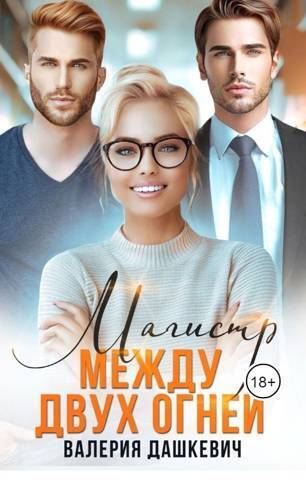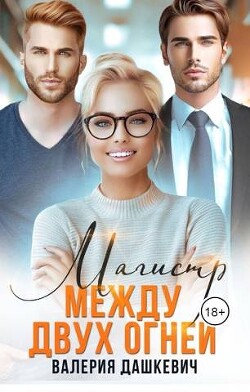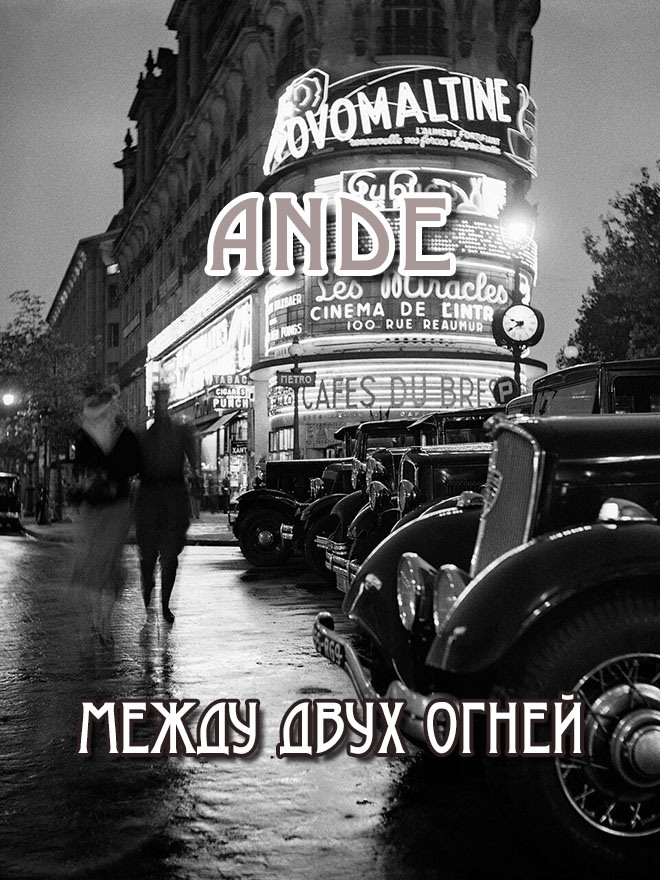ругайся.
— Ерунда. Я буду ругаться, как захочу.
— Это...
— Что?
— Неблагородно.
— Ну, это громкое слово. Ты ведь умеешь читать, так?
— Да. Французский и латынь. Но не греческий.
— В любом случае, почему ты хочешь пойти со мной?
— Почему ты не взял лук?
Лук был бы полезен для охоты, если бы Томас умел хорошо стрелять, но он не умел. Он промахивался почти по всем оленям, перепелам и кроликам, в которых когда-либо стрелял из лука или арбалета, и ему не нравилось поражать копьем испуганного оленя, загнанного в угол гончими. Единственное, на что он любил охотиться, — кабан, и только потому, что кабан мог повернуться и сражаться с тобой, пока ты не вонзишь копье достаточно глубоко. У Томаса был к этому талант.
— Это неблагородно — убивать издалека.
— Наш Господь велел вообще не убивать. В чем разница?
— Наш Господь также велел воздавать кесарю кесарево. Мой меч принадлежит моему сеньору. Вернее, принадлежал, пока англичане не нашпиговали его стрелами его при Креси. Как и меня, но я выжил. Бог, в Своей мудрости, создал меня воином.
— И все же ты едешь с человеком, который убивает издалека. Так что же ты делал на дороге с этими людьми?
— Ну... Это другое дело.
— Я спрашиваю.
— Ты спрашивала о луке, и я пытался тебе объяснить.
— Ты мог бы его продать.
— Это его, — сказал Томас, указывая на Жако. — Ему это нужно. Он слабый.
— И ты, если едешь с ним.
— Какая же ты заноза в заднице! В любом случае, я с ним не езжу. Больше нет. Ты это устроила.
Она опустила взгляд на свои ноги, пальцем ноги выковыривая соломинку из грязи.
— Зачем ты подошла к нам? Это было глупо.
— Мне нужно было...
— Я знаю. Твой покойный отец. Но девочки не должны подходить к солдатам. Теперь ты это знаешь. Верно?
— Теперь я это знаю.
— Хорошо.
Она поднимала соломинку большим и следующими пальцами, пока не уронила ее, после чего подняла еще одну соломинку и начала игру сначала.
— Но, если бы я не подошла к вам, я была бы одна.
— Ты одна.
— Нет. Я иду с тобой.
— Какая ты заноза в заднице! Три занозы в заднице!
— Не ругайся.
— Дырки Христа, малышка. Кровоточащие, гребаные дырки Христа!
— Похорони моего отца.
— Нет.
— Он называл меня своей маленькой луной.
— Что?
— Его маленькая луна. Так он называл меня.
— Я подцеплю заразу!
— Я не заразилась. И ты не заразишься.
— Заражусь.
Теперь она посмотрела на него.
— Тогда, может быть, ты попадешь на Небеса, если заразишься, занимаясь добрым делом.
Томас хотел что-то сказать, но промолчал.
Он опустил голову и кивнул.
Работа обещала быть ужасной. Поэтому он поручил это человеку с опущенным глазом. Томас стоял у дома с мечом на плече и заглядывал внутрь, пока Жако отламывал ножки от семейного стола, а затем, подложив под мертвеца простыню, тащил его на стол. Жако был на грани истерики от страха; он обернул лицо полами капюшона и приложил к носу помандер6 с сиренью и лавандой, чтобы защититься от зловонного воздуха.
— Помандер принес им много пользы, — сказал Жако, укладывая труп на столешницу. Его было едва слышно сквозь ткань и жужжание мух. — Я имею в виду ее отца, клянусь Святым Людовиком и его гребаным дубом7. Если бы эта чертова штука сработала, он был бы сейчас здесь, отплясывая с нами джигу. Вместо этого он воняет у ног Господа и готов разорваться на части из-за червей в себе, и я следующий. Ты убил меня, заставив это сделать.
— Заткнись.
Жако, перетаскивая свою ношу через порог дома, продолжал ворчать:
— Значит, мы тратим полдня на похороны незнакомца и бросаем наших друзей, как животных?
— Наши друзья были животными. Мы делаем это ради девочки. А теперь заткнись.
— Что ты собираешься делать? Врезать мне еще раз? Кто тогда закатает этого старого хрыча в его нору? Ты это сделаешь, вот кто.
— У меня от тебя болит голова.
— У кого из нас болит голова? Прошлой ночью тебя не избили до полусмерти. Ты не обделался, не рыл могилу, а потом...
Он замолчал, когда к нему подошла маленькая девочка. Он уже приготовился сбросить труп в неглубокую яму, но она подошла к нему и вложила в руку маленький терновый крестик.
— Он выпал, — просто объяснила она.
Затем она поразила и ужаснула обоих мужчин, поцеловав распухшую фигуру в щеку.
— Прощай, папа, — сказала она. — Теперь мама присмотрит за тобой, а этот рыцарь присмотрит за мной.
— Ты закончила? — спросил Жако.
Она кивнула. Он наклонил стол, и папа упал в яму, расколовшись, как гнилой фрукт. Девочка этого не видела, но она наблюдала за выражением лица Жако, когда он смотрел на это.
— Все в порядке, — сказала она. — На самом деле это больше не он.
— Ни хрена себе, — сказал он и кашлянул в салфетку для лица, которую уже собирался снять, когда Томас указал на кучу земли.
— Да ладно тебе. Дай мне передохнуть.
— После того, как ты закопаешь.
Пока мужчина с опущенным глазом, обливаясь потом и жалуясь, постепенно засыпал могилу за маленьким домиком, девочка пошла в дом и вскоре вернулась, неся через плечо перевязанную простыню, полную вещей, которые она явно собиралась спасти.
— Куда мы идем? — спросила она Томаса.
— Ну, я собираюсь на юг или, может быть, на восток. Я еще не решил.
— А что есть на юге, кроме папы римского? — спросила она.
— Я не знаю. Я только знаю, что это не запад.
— И что находится на западе?
— Еще вот это, — сказал он, указывая на неподвижную, раздробленную землю вокруг них.
— Тогда ладно. Юг, — сказала она.
— Один город, — сказал Томас, подняв толстый мозолистый палец. — Я возьму тебя с собой, пока мы не доберемся до следующего города, и буду тебя охранять. Но если ты будешь плакать, скулить или стонать по дороге туда, я тебя брошу. Если будешь вести себя сносно, я отдам тебя на попечение первой же живой настоятельнице или даже гребаной послушнице, которую увижу.
Она прищурилась, услышав его богохульство, но он приблизил палец к ее лицу, сказав:
— И я буду ругаться, как мне заблагорассудится. Клясться Пресвятой Девой, ее кислым молоком, волосами дохлых свиней и всем, что дьявол вложит мне в рот. И чем больше ты будешь жаловаться на это, тем хуже я буду ругаться.
Она еще больше сузила глаза, глядя на него, что заставило его подумать, что отец ее не бил.
— И не корчи мне рожи. Подай мне тот мешок, который ты