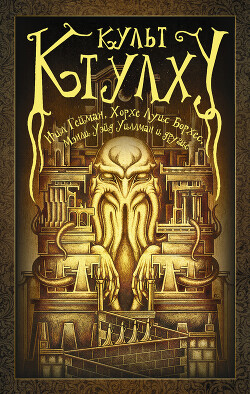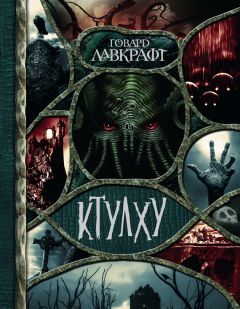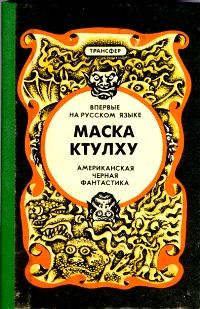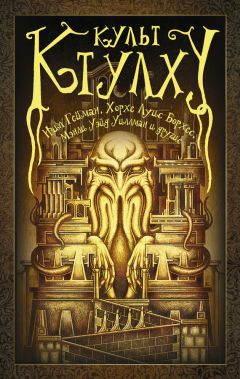Мнимый мир и довольство воцарились в Иннисвиче… О, как же отчаянно мы с Грацией нуждались в душевное покое! Это счастье было ненастоящим; просто решимость скорее откреститься от страшного прошлого словно бы раздернула тяжелые пыльные шторы, державшие дом в вечном мраке, и впустила слабенький, робкий лучик нормальности. Следующие несколько месяцев я с наслаждением наблюдал, как Грация медленно возвращает себе юную, свежую жизненность, бывшую на самом деле неотъемлемой частью ее натуры и, увы, так ненадолго распустившуюся у меня на глазах в ту неделю, пока Клод болел. Она снова смеялась, гуляла со мной по выметенным зимними ветрами пескам побережья, устраивала маленькие сюрпризы, изысканные ужины – и да, это именно она убедила меня вернуться к писательской деятельности. Спроси нас кто-нибудь, и мы с уверенностью сказали бы, что совершенно счастливы. Конечно, это была бы ложь. Я писал, но те несколько опусов, которые мне удалось из себя выжать, оказались откровенно слабы: им недоставало спонтанности. Проза выходила чахлая и перегруженная странной тревогой. Это не мешало нам с Грацией строить планы. Мы толковали о путешествиях, о браке, но некий беспокойный призрак все время витал между нами – мы знали, что всем этим прожектам не суждено сбыться… что пока эта извращенная, ненавистная тварь в приюте живет и дышит, Грации никогда не быть свободной. Как одинокие дети, мы забавлялись своими жалкими играми, пытаясь не замечать, как кругом сгущается ночь, наползая из всех углов.
Нелегко отследить последовательно, как так вышло, что я стал меняться. Думаю, все началось с непроизвольного смятения, с беспокойства, принявшегося осаждать мой разум уже через считанные дни после того, как Клода посадили под замок. Я пристрастился к одиноким прогулкам по самым отдаленным, изъеденным солью пляжам нашей округи; кипучая тревога безжалостно снедала мой разум. Со мной случались ужасные мгновения пустоты и отрешенности – и тогда какое-то дикое возбуждение словно бы взбиралось по моему позвоночнику и гнало в ночь, вон из спальни, заставляя бродить по лабиринтам Приората и переполняя ощущением безграничной, несокрушимой силы. Не раз и не два я приходил в себя, дрожа от холода, промокший от пота, стоя перед той резной дверью в восточном крыле дома – перед вратами в адский склеп, где все напоминало о богопротивном зле по имени Клод Эшер. Потом эти состояния проходили, так же внезапно, как и появлялись, и я, дрожащий, растерянный, падал на кровать и проваливался в глубокий, беспокойный сон. Грации я об этих ночных припадках даже не заикался… и все же временами я встречал ее взгляд и читал в нем под покровом нежности испуганный вопрос – она чувствовала, что что-то не так. Ее безмолвные подозрения оправдались в тот вечер, когда мне пришло в голову сесть за пианино.
Я говорил себе, что музыка, возможно, окажет успокаивающее действие на мои нервы. На самом деле это была всего лишь, как сейчас говорят, рационализация странного, необычайно горячего желания играть, вдруг овладевшего мной буквально на ровном месте. Желтеющие клавиши казались холодными и какими-то липкими, но мои пальцы порхали по ним с изяществом и невиданной доселе легкостью. Приторная меланхолия шопеновского ноктюрна лилась в окутанную сумерками комнату; низкие ноты темно пульсировали, мучая мой сверхчувствительный слух… а потом в какой-то момент музыка перестала быть Шопеном. Настойчивые, дисгармоничные аккорды под лихорадочно пляшущими руками налились жестокостью и злой радостью. В барабанный ритм басов вплетались визгливые верха, напоминая нечестивые завывания мириадов потерянных душ. Безбожные звуки уносились в ночь, заставляя тени в углах комнаты непристойно извиваться. Лишь однажды несчастная утроба инструмента исторгала при мне такую адскую музыку. Мелодия, рвавшаяся с клавиш, была песней проклятых, которую исполняла Грация для Клода Эшера.
Я знал, что она стоит позади. Ноздри у меня затрепетали: запах ее волос и кожи, казалось, затопил всю комнату. Пальцы мои онемели и замерли; последний взвизг музыки повис в пустоте, словно ядовитые испарения, и, наконец, стих. Я медленно повернулся. Ее платье для прогулок выделялось в затененном проеме дверей ярким желтым пятном; ее лицо, мягкая полнота уст, спелость тела были одновременно чисты и утонченно соблазнительны. Я уже стоял перед ней и ощущал твердость и теплоту ее руки. Улыбка, всего мгновение назад трепетавшая у нее на губах, растаяла; глаза внезапно разгорелись страхом. Кажется, я улыбнулся – во всяком случае, ощутил, как мои губы непослушно, принужденно изогнулись. Язык во рту шевельнулся и словно бы из ниоткуда пришел голос, сказавший:
– Грация, милая… невеста моя… возлюбленная!
Чистый неразбавленный ужас исказил ее лицо, когда я наклонился к ней с поцелуем. Она вырвала у меня руку и прижалась к стене; слова спотыкались, голос звучал пронзительно и молящее:
– Нет! Оставь меня в покое! Пожалуйста, ты должен оставить меня в покое!
Где-то в отдаленном уголке моего разума раздался звук, похожий на удар хлыста. Затуманенное зрение внезапно очистилось, и я впервые разглядел ужас и отвращение, смешавшиеся у нее на лице. Меня охватила невероятная слабость; пот струился, щекоча, по шее. Желудок сжался от полной беспомощности и растерянности. Я тупо уставился на хрупкое создание, скорчившееся передо мной, закрыв лицо руками. В горле царила страшная сухость, слова рождались с неимоверным трудом.
– Что это… Грация, что я сделал? Что…
Я умолк. Она отняла руки от лица и долго глядела на меня, озадаченная, испуганная. А еще через мгновение она тихо плакала у меня в объятиях. В рыданиях, сотрясавших ее теплое тело, звучала странная нота облегчения. Мое отупелое удивление от этого лишь возросло.
– Что такое? – мягко повторил я. – Что тебя так напугало?
– Ничего… – Она покачала головой, и издала надтреснутый истерический смешок. – Прости меня, дорогой. У меня было престранное чувство… Должно быть, это все музыка. Его музыка. И… и твое лицо. Оно было такое бледное, и ты так характерно улыбался… такой кривой, гадкой улыбкой. Я просто…
Смешок снова булькнул и захлебнулся в рыдании.
– Я понимаю, как неправдоподобно это звучит… но на мгновение мне показалось… мне показалось, что передо мной Клод!
VIII
Я не спал. Камин в спальне давно погас, оставив несколько багровых угольев. Уже сильно после полуночи, буря, грозившая побережью весь день, наконец, обрушилась на Иннисвич. Я сидел очень тихо, во власти странного напряжения, слушая дальний рокот моря, насмешливым эхом повторявший слова Грации Тейн: «Мне показалось, что передо мной Клод… показалось, что Клод… Клод… Клод…» Замерзший, дрожащий, я вскочил на ноги и принялся бесцельно мерить шагами пол. Молния распорола тьму за окном. Я посмотрел в ночь и выругался. Открывая новую бутылку ржаного виски и наполняя стакан, я едва удержал их в руках, так что стекло зазвенело о стекло. Я снова упал в кресло, стараясь не слушать сводящий с ума грохот прибоя. Это повторялось опять и опять, уже не первый раз за эти окутанные тьмой предутренние часы. Все было тщетно, заснуть я не мог. И нет, я не спал, когда услышал бой барабана.
В какой-то забытой расселине моего разума полыхнул алым непобедимый сигнал опасности. Нет! Мозг взорвался беззвучным криком. Не смей! Не сдавайся! Не дай Клоду победить! Вернись! Вернись сейчас же… в себя… в свое собственное тело! Ты должен! Я чувствовал, как мои онемелые губы кривятся в безумном, мучительном усилии произнести хоть слово.
– Нет! – прорычал мой голос, перекрывая барабанный гул. – Нет! Вернись! Я должен вернуться…
Неимоверным рывком я заставил себя встать. Ноги были как студень. Не помню, как я ковылял сквозь зловонный сумрак, помню лишь как очутился перед дверью – перед черным прямоугольником, зияющим последней надеждой на спасение… – и как шипящий язык огня в жаровне за спиной подпрыгнул выше, простирая жестокие, жаркие пальцы, стараясь меня удержать. Я уже почти переступил порог, почти оказался в коридоре, когда это случилось.