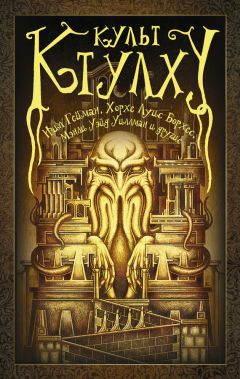– Миссис Эшер просто была недостаточно сильна. Это само по себе странно… ребенок оказался как будто бы слишком велик для нее. Он прямо высосал из матери все силы, всю волю. Словно…
Слова его канули во тьму, куда вслед за ними уже падал и я. Я хотел закричать, заплакать, но не мог. Страх и одиночество стиснули мне грудь; я едва мог дышать. Потом, уже годы спустя, конец этой неоконченной фразы Эллерби так и преследовал меня: «…словно он убил ее, чтобы выжить самому».
Они похоронили маму в тенистом уголке кладбища, за церковью. Вся деревня пришла и стояла там, под иглами ливня, склонив головы в безмолвном горе. И сквозь все это, требовательный и наглый, пробивался воинственный вой младенца Клода. В этих властительных воплях было что-то отчаянно неправильное, чтобы не сказать нечестивое – как будто этот темноголовый горлопан уже был запанибрата со смертью и не собирался ни горевать, ни, тем паче, пасовать перед ее неумолимым лицом.
С того дня и дальше Иннисвичский Приорат находился в полной и безраздельной собственности моего брата. Завывания, впрочем, очень скоро прекратились, и голос Клода с самых младых ногтей приобрел странно свистящие и шипящие модуляции – но менее властным от этого не стал. Напротив, сама его тихая мягкость, казалось, лишь способствовала силе, и влияние его на слушателя от этого только возрастало. Воля Клода, а отнюдь не его голос, правила Приоратом и всеми его обитателями. Голос был просто инструментом.
Папа стал Клоду настоящим рабом. Вся нежнейшая, невзыскательная любовь, которую он питал к маме, пока та была жива, теперь досталась ему. Надо думать, отец видел в младшем сыне последнюю память о той, чья могила теперь была вечно убрана цветами – во всякое время года. Мне его было ужасно жалко – ибо мой брат, это слабое, отрешенное, задумчивое создание, абсолютно не нуждался ни в любви, ни в помощи. Всю свою жизнь Клод Эшер был совершенно холоден и самодостаточен – и, более того, способен получить все, чего бы ни пожелал.
Постоянное беспокойство по поводу сомнительного здоровья Клода привело к дальнейшим эскападам со стороны отца. Вместо того чтобы отослать мальчишку в школу и избавить от гнетущей атмосферы Приората, папа принялся нанимать частных учителей. План, разумеется, с треском провалился. Раз за разом все начиналось хорошо, но стоило очередному ученому джентльмену или леди свить в Приорате уютное и хлебное гнездышко, как тут же все шло насмарку. Попечение об одном-единственном мальчике представлялось им удачнейшей в мире синекурой, но в какой-то момент каждый из них понимал, что чувствует к питомцу живейшую неприязнь, открытую или тайную. Никто в итоге не задерживался в Иннисвиче больше, чем на пару недель. Когда очередной бедолага покидал наш негостеприимный кров, мне иногда случалось поглядеть из сада вверх, и за окном второго этажа я видел бледную, тонкую физиономию Клода: по его бесцветным губам неизменно блуждала довольная и злобная улыбка. Стоило назойливому чужаку оставить наши пределы, и вороватый изоляционизм моего дражайшего брата снова окутывал Приорат, будто гробовым покровом.
В восточном крыле Приората, за массивной барочной дверью пряталась комната, которой я никогда в жизни не видел. Нечестивые слухи о ней будоражили добропорядочный Иннисвич с одной достопамятной ночи в конце XVIII века. Отец никогда ни словом не обмолвился нам о жутких легендах, гнездившихся и шептавших гнусности за этим резным порталом. С него было довольно, что сто лет назад комнату заперли и забыли. Но мы с Клодом держали ушки на макушке и потому слышали как приходящая прислуга из деревни, ежась от удовольствия, шепотом смакует кошмарные подробности тайных злодеяний, отошедших в далекое прошлое.
В 1793 году Иавис Дризен, тогдашний пастор иннисвичской церкви, возвратился из длительного отпуска в Европе и привез с собой женщину, с которой успел познакомиться и, более того, пожениться на континенте. В архивах местной библиотеки сохранились письменные упоминания о ее необычайной красоте – довольно разрозненные и по большей части двусмысленные или даже оскорбительные. Впрочем, в одном все эти свидетельства соглашались друг с другом: супруга Иависа Дризена была тайной последовательницей ведовства. Она родилась в какой-то неизвестной и пользующейся дурной славой венгерской деревушке. Вскоре уже весь Иннисвич шептался, что эта колдунья, эта наложница сил тьмы недостойна жить среди честных христиан, а в ту ночь, когда истеричная, тупоголовая баба, прислуживавшая Дризенам, сбежала из Приората, вопя на всю деревню, шепот перерос чуть ли не в революцию. Изловив старуху, деревенские попробовали выяснить причину ее припадка, и тут-то и всплыла загадочная комната в восточном крыле. Там пытливые селяне обнаружили ответы на все свои вопросы – в виде обугленных останков молодой жены Иависа Дризена, прикованных к вертелу в фундаментальных размеров старинном камине. На одной из массивных потолочных балок бесшумно раскачивался труп самого пастора Иависа. На следующий день тела вынесли из комнаты и похоронили, а само помещение запечатали.
Так вот, когда Клоду Эшеру стукнуло двенадцать, он потребовал эту комнату себе во владение.
Отец разволновался пуще прежнего и, наконец-то, открыто заявил, что его беспокоит нездоровый индивидуализм Клода – а тот, реквизировав комнату в восточном крыле, прекратил практически все контакты с внешним миром. И вправду было что-то болезненное и тревожащее душу в том, как он сидел дни и ночи напролет в своем неприкосновенном убежище. Тяжелая, покрытая затейливой резьбой деревянная дверь неизменно стояла запертой. В ясные сухие дни Клод, бывало, часами и безо всякой цели бродил по пустынному выцветшему берегу моря; ключ от комнаты он, разумеется, всегда носил с собой. Подгоняемый любопытством и отцовскими сетованьями, я частенько пытался найти хоть какие-то общие с братом интересы, которые могли бы свести нас поближе и дать мне возможность проникнуть в ту тайну, которую он столь ревниво прятал в своем одиноком, населенном призраками прошлого обиталище. Раз или два я даже пытался составить ему компанию в экспедициях вдоль линии прибоя, но его мрачная неразговорчивость очень ясно дала понять, что мне тут не рады. В конце концов, я разочаровался и оставил эти тщетные попытки. Всем было бы лучше, если бы я так никогда и не набрался смелости бросить Клоду вызов и проникнуть в его запретную комнату, – но, увы, тут в дело вмешался мой ирландский сеттер, Тэм.
Зная, что я обожаю собак, отец подарил мне его на двадцать второй день рожденья. В возрасте чуть больше года он уже был отлично дрессирован. Ум он имел острый, глаза добрые, а шерсть – того дивного медного цвета, который делает всю породу исключительным образчиком красоты. Не успел я оглянуться, как мы с Тэмом уже были неразлучны: куда я, туда и он. Его бурные, временами потешные игры хоть немного развеивали сумрак, вечно окутывавший наш Приорат, который будто весь зарос какой-то липкой, удушающей грязью, не пропускавшей ни солнечный свет, ни обычную человеческую радость. И, разумеется, Клод возненавидел Тэма с первого же взгляда.