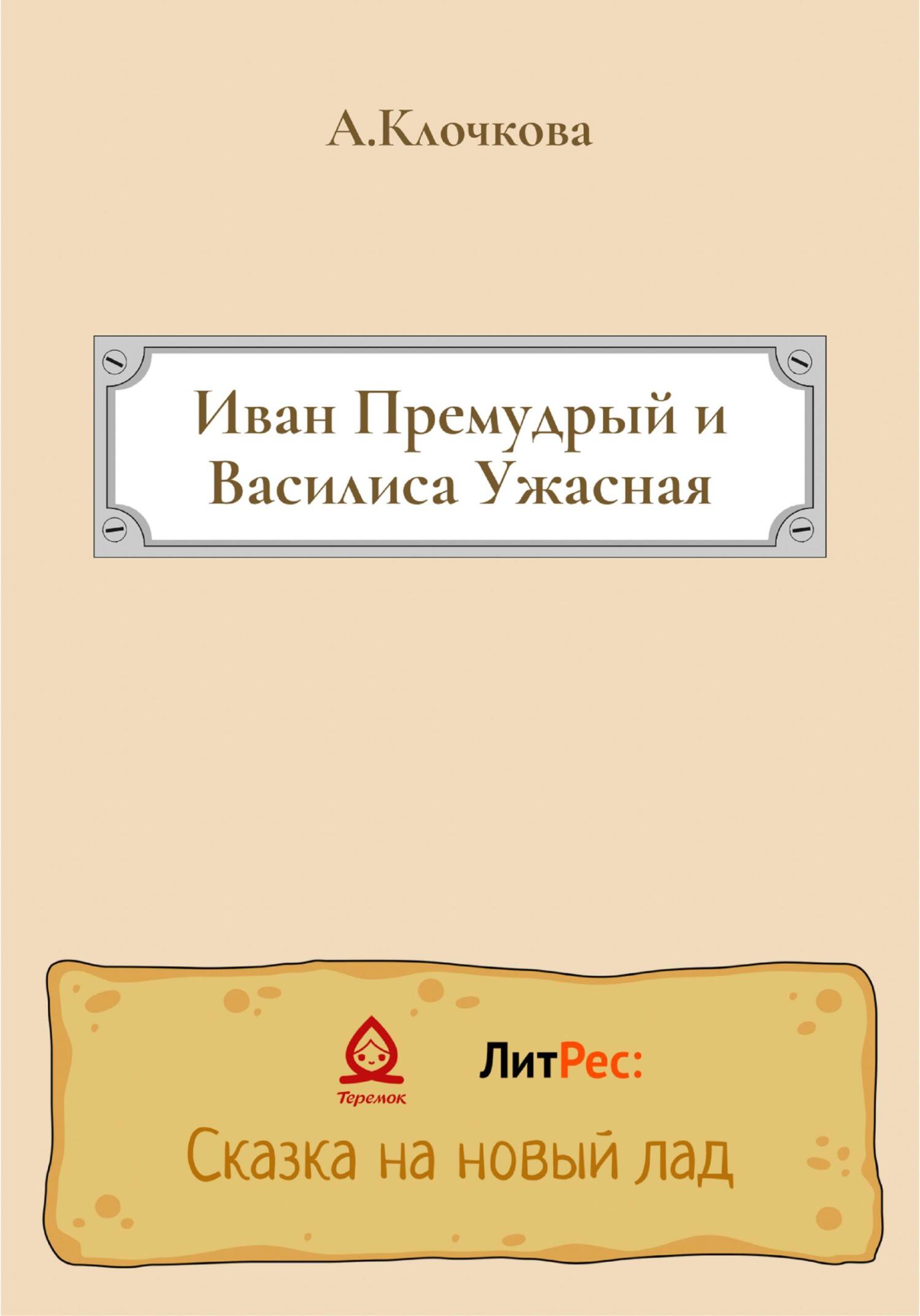И по переменившемуся лицу доктора, по выражению ужаса на этом лице, когда Сергей Сергеевич отшатнулся в сторону, Лукьян Сивцов понял: он попал не в бровь, а в глаз.
— Как вы узнали? — Доктор Краснов перешел на шепот, хотя на всей Губернской улице не нашлось бы ни одного человека, которой мог бы услышать их разговор.
И Лукьян Андреевич, который был совсем не лыком шит, тотчас же ответил:
— Исправник сам нынче вечером мне обо всем рассказал.
Выражение лица доктора переменилось во второй раз: стало жалобным, словно у маленького ребёнка.
— Так ведь я не сам придумал написать ему ту записку! — воскликнул он. — Мне вчера днем пришла телеграмма — от Петра Эзопова, вам небезызвестного. Которого, между прочим, в Живогорске уже пятнадцать лет считают умершим чуть ли не все горожане.
— Все — да не все. Вы-то сами, сударь, явно не заблуждались на сей счёт — коль скоро взялись исполнять указания господина Эзопова. Однако проясните для меня одну вещь: какой аргумент вы привели, чтобы побудить Дениса Ивановича Огрурцова вломиться посреди ночи в алтыновский дом?
— А разве Денис Иванович вам этого не сказал? — В голосе Сергея Сергеевича мгновенно проклюнулись нотки подозрения.
— Денис Иванович мне много чего сказал. Однако не всему я желаю верить. Оттого и хочу сравнить вашу историю и его.
Сергей Сергеевич повздыхал, пожевал губами, а потом с явной неохотой проговорил:
— Я отправил исправнику Огурцову записку, в которой было сказано: Из надежных рук я получил сведения, что в семействе Алтыновых не всё ладно: готовится покушение на убийство. Примите меры. Вот, собственно, и всё — именно это и велел мне написать Петр Эзопов. А исправник моими словами не пренебрег — как-никак, я единственный врач в городе, который соглашается безвозмездно оказывать помощь уездной полиции.
— Это-то я понимаю, — кивнул Сивцов. — Мне другое неясно: почему вы беспрекословно подчинились требованию Петра Эзопова, да ещё и высказанному в телеграмме? Вы ведь, кажется, были с ним едва знакомы.
Доктор словно бы даже обрадовался этому вопросу.
— Мы с господином Эзоповым когда-то учились вместе на медицинском факультете Петербургского университета. Вот только Петя так и не кончил курса — его выперли за полгода до выпуска. С формулировкой: за неподобающее поведение.
3
Иван Алтынов испытывал теперь уже не досаду, а саму настоящую злость. А ещё — его грыз нешуточный страх, притом что еще недавно он самонадеянно полагал, будто за прошедшие десять лет отвык чего-либо бояться. Да, Валерьян, поколдовав с его часами, сумел иллюзорно отсрочить наступление рассвета на Духовском погосте. Вот только — толку им двоим с этого не вышло никакого. Напрасно они чуть ли не носами рыли землю у себя под ногами. Напрасно светили фонарем туда и сюда. Напрасно все изгваздались в размокшей земле, шаря по ней руками. Последний камень — бесценный чёрный бриллиант — они всё равно найти не смогли. Он будто сквозь землю провалился — в буквальном смысле.
— Я могу попробовать ещё раз... это проделать с часами, — предложил Валерьян; дыхание у него сбилось, и свою фразу он произнес в два приёма.
Но — имело ли хоть какой-то смысл тратить время на подобные манипуляции? Ясно было: им с Валерьяном даже недели не хватит, чтобы выкопать из земли камень размером с ягоду рябины. Возможно, им никакого времени на это не хватит. И — купеческий сын решился.
— Вот что, — сказал он, — нам двоим с этим делом не справиться, хоть мы сами тут костьми ляжем. Ты должен позвать кое-кого на помощь. Да, да, не мотай головой: меня эта идея тоже не особенно вдохновляет. Только выхода я не вижу. Твой настоящий отец, Кузьма Петрович — я думаю, он твой призыв игнорировать не станет.
— Так что же ты сам его не позовешь?! Он ведь не только мой отец — он ещё и твой дед, между прочим!
— Я бы позвал, — сказал Иван, поднимаясь с земли и безуспешно пытаясь отряхнуть безобразно перепачканные брюки, — только он не станет оказывать мне никаких услуг. Я, видишь ли, кое-что ему пообещал. И пока что своего обещания не исполнил.
4
Татьяна Алтынова ехала в Живогорск в карете-дормезе, имевшей внутри два спальных места. Но за всю дорогу ей так и не удалось сомкнуть глаз — в отличие от её пожилой спутницы. Та, как уснула ещё на выезде из Москвы, улегшись лицом к стене кареты на своей лежанке, так и не просыпалась ни разу. По крайней мере, видимость создавалась такая. Ощущать себя в чем-либо полностью уверенной, когда дело касалось этой женщины, было не просто невозможно — это было, к тому же, глупо и опасно. Уж Татьяна-то Дмитриевна хорошо это понимала!
Она даже самой себе не хотела в этом признаваться, но во основном именно из-за этой пожилой особы ни Татьяна Дмитриевна не оформила развод с Митрофаном Алтыновым, когда покидала Живогорск, ни Петр Эзопов не развелся со своей женой Софьей. Ибо эта женщина — которая в ту пору была на пятнадцать лет моложе — без обиняков поведала им обоим, в чем состояла первопричина той неодолимой тяги, которую Татьяна Алтынова и Петр Эзопов друг к другу испытывали. Той страсти, которой они вдруг, ни с того, ни с сего, воспылали друг другу. Правда, нынешняя спутница Татьяны Дмитриевны нарекла эту страсть иначе: бесовское наваждение. И они двое, выслушав всё то, что она им поведала, вынуждены были с подобной дефиницией согласиться. А Петр Эзопов прибавил тогда к этому определению ещё один термин, латинский: maleficia. Но, по мнению Татьяны Дмитриевны, что наваждение, что чернокнижное колдовство — разница была невелика. Результат-то вышел один!
И как могли они двое — Татьяна Дмитриевна и Петр Филиппович — начать бракоразводные процессы, узнав правду об истинной природе собственных чувств? Мало того, что по законам Российской империи для получения развода нужно требовалось доказать в суде — и привести свидетельские показания! — супружеской неверности из обоих. Что неизбежно покрыло бы позором не только их самих, но и их обманутых супругов. Так ведь и резонов затевать процессы о расторжении двух браков у них не было: их обоюдные чувства могли растаять с такой же лёгкостью, с какой и возникли.
Собственно, пожилая спутница Татьяны Дмитриевны, пребывавшая сейчас в объятиях Морфея, в своё время пыталась сделать так, чтобы эти выморочные чувства растаяли. Но не тут-то было. Все её старания имели своим итогом только одно: преступление, последствия которого по сей день довлели над всем алтыновским семейством. К которому Татьяна Дмитриевна, вопреки логике и здравому смыслу, по-прежнему себя причисляла. Действия этой женщины, сколь бы ушлой она себя ни считала, не дали ровным счётом никакого результата. И, когда б ни расторопность Митрофана Кузьмича Алтынова, которому Татьяна Дмитриевна без утайки рассказала обо всем произошедшем, за преступление это убийце пришлось бы отправиться далеко за Урал — в сибирскую каторгу.
— Я устрою всё так, — сказал пятнадцать лет назад Митрофан Алтынов своей жене, — что никакого дела об убийстве не будет вовсе. Но ты должна будешь из Живогорска уехать — вместе с Петром Филипповичем. Где вы поселитесь — ваше дело. И деньгами я вас обоих снабжу. Но открыто жить вместе вы не сможете — ты и сама это понимаешь. А мы с Софьей станем говорить, что и моя жена отправилась в лучший мир, и её муженек — тоже.
Татьяна Дмитриевна даже не спросила тогда, поверит ли хоть кто-то в подобное совпадение: в то, что и брат, и сестра овдовели в одно и то же время. Спросила она о другом:
— А как же Иванушка? Неужто ты не позволить мне видеться с ним?
Вот тут-то Митрофан и рассказал ей — впервые! — какие обстоятельства сопровождали появление на свет её единственного ребёнка. А также высказал подозрение (не такое уж нелепое, как могло бы показаться на первый взгляд), что жизнь Иванушки была спасена тогда не вполне обычным способом. И, с учётом того, что Татьяна Дмитриевна, его мать, оказалась сейчас под воздействием тёмных и нечестивых чар, лучше ей было держаться от своего сына подальше.