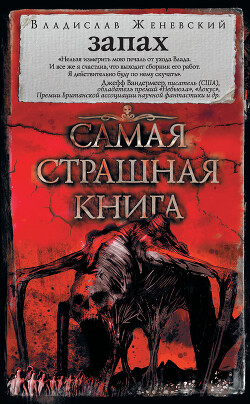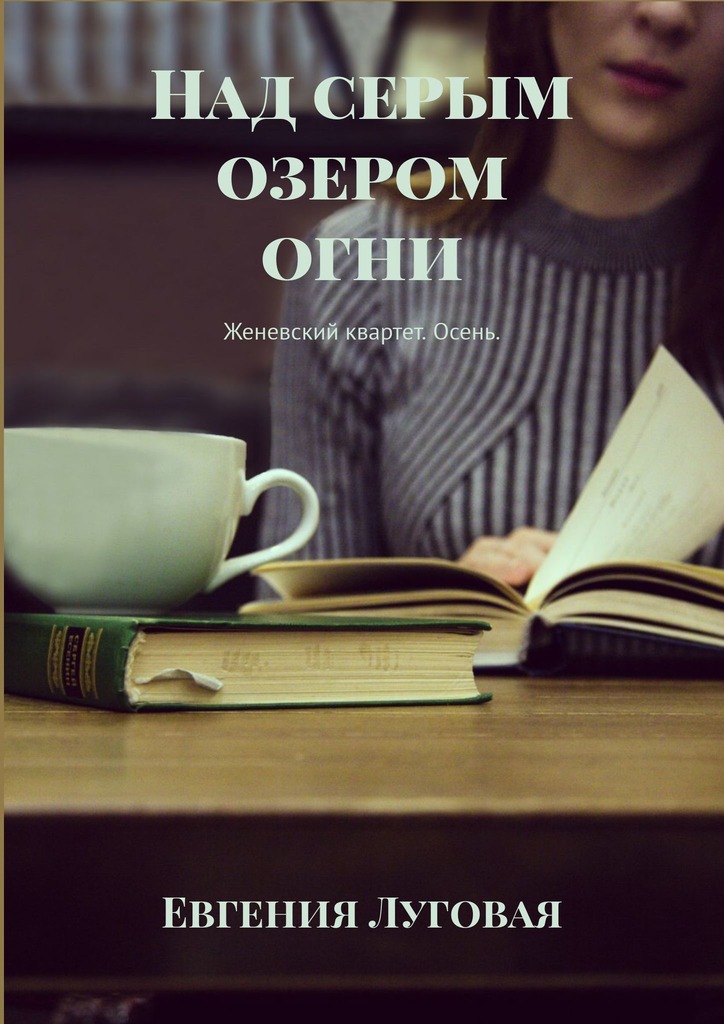Из люка показалась огромная белая пятерня, сжимавшая трехлитровую банку с чем-то коричневатым. Оставив груз у печки, она дождалась напарницу, чуть напряглась, и из подвального зева вынырнула лысая голова со вздутым рылом и кляксой на лбу.

…Когда живые тиски сдавили его череп, Андрей в луже у крыльца пытался нашарить ножницы в рюкзаке. Мир стал серым и размытым. Прощально хрустнули очки, и его поволокли куда-то, словно деревянную куклу. Бросили на землю, в пару рывков сдернули одежду и белье, прижали подошвой. Зашуршала сталь, скользнув по выделанной коже, затем коснулась его собственного скальпа и в десяток точных движений соскоблила волосы, чтобы через миг развеять их бесполезным пухом. Ему отвели несколько секунд на то, чтобы осознать боль, а когда время вышло, потащили голого через двор. Лицо его закрыла зловонная жесткая ладонь, и о маршруте, прямом и немудреном, он мог судить лишь по камешкам, царапавшим ягодицы. Скрипнула калитка, почва сразу стала глаже и холодней. Тревожно запели лягушки. Его свалили в неглубокую канавку и отпустили, но не дали даже набрать воздуха в грудь – раздвинули челюсти, протолкнули сквозь зубы щепоть горьких зерен, брызнули затхлой воды и зажимали рот с носом, пока он все не проглотил. Только тогда рука оставила его и почти с нежностью погладила по щеке. Или нет, она не ласкала – рисовала стрелки и черточки, готовила к чему-то.
– Тр… тар… – булькал он, но язык уже заплетался, онемение расползалось по телу и затопляло отсек за отсеком. Голова сама собой крутанулась влево и застыла – тумблер на человечьей шее. В бесцветной мути несколько мгновений маячил широкий силуэт, потом растворился без остатка.
Сбоку тихонько заскулили. Ворочая глазами, как камнями в трясине, он разобрал неподалеку от себя что-то небольшое, белесое, точно так же окоченевшее. А вот и капуста. Всякая плоть – капуста.
– Тфл… И тбя. Прсть.
Ему показалось, что фигурка вильнула хвостом, но этого, конечно, быть не могло.
Осязание наконец-то покинуло его, но слух все еще ловил громовой писк тысяч, миллионов крылатых иголок. Укусят или нет? Ясное дело – укусят. И возьмут свое. Интересно, как у них все устроено? Соты, ульи, воск, как у пчелок? Матки, воины, работяги? Ячейки в болотной жиже? Да нет, совсем не интересно.
Рядом с ним ждали жатвы и сонные мыши, ангелочки на заклание. Природа с несвойственным ей остроумием собрала в одном месте почти всю пищевую пирамиду, только перевернув ее вверх ногами. А может, и не перевернув, – кто тут едок, а кто кормилец? Человек с большой буквы «х». Светка оценила бы.
Но, когда разум начал меркнуть, он думал не о ней, а о бабушке. О жилистых смуглых руках, о пестрой косынке, о банке из толстого стекла. И о струе меда, медленно падающей в вазочку – не золотой, черт бы побрал всех мух, а тягуче-красной. Как вишня, как магический рубин, как самый сладкий сок на темной земле.
2014
Kom [2]
Солнца не стало. Обычно погода не считалась с настроением Н., отвечая моросью на его веселость и награждая ясным небом в черные дни, но в этот раз вышло как по заказу. Он еще различал автомобили на набережной, когда откуда-то поползли языки тумана, слизывая портовый пейзаж, отсекая паром и стоящего на нем человека от всего – от Хельсинки, от зеленых финских лесов и железной дороги, от Питера и серого дома на Васильевском, где скучала сейчас женщина с грустными глазами и ворочалось что-то новое, неизвестное в ее животе. Глядя в молочную пустоту, заволакивающую здания и суда, легче было поверить, что жизнь поставлена на паузу и через три дня продолжится с того же места. Только исчезнет назойливый фоновый шум, из-за которого в простую и четкую мелодию вот уже четыре года вкрадывался диссонанс. Треск поцарапанной пластинки. Борозда, оставленная на виниле острым красным ногтем.
У тумана были и другие плюсы. Н. не любил и не понимал море. Путешествовать воздухом он просто боялся, но море – не понимал, как не понимают соседа по лестничной клетке, у которого, по слухам, не все ладно с головой. Почему он улыбается тебе? Зачем держит руку в кармане? Что сделает в следующий момент? Ты не знаешь и не узнаешь никогда.
И все же лучше так, чем воздухом.
В такие минуты он жалел, что не курит. Вглядываться в никуда, опираясь о фальшборт, – состояние. Вглядываться и курить – действие. Анника превращала курение в священный ритуал – торжественно и не торопясь чиркала зажигалкой, прикуривала, выпускала сизый дым и благоговейно закатывала глаза. Каким богам она возносила молитвы, Н. не спрашивал, но не сомневался почему-то, что без ответа ее не оставляют. На лиловых гостиничных простынях посреди Стокгольма рождалась тайная языческая магия. Поэтому он молча терпел, сдерживая кашель и скользя взглядом по ее телу, а сиреневая дымка все сгущалась и сгущалась.
Поэтому, наверное, и ушел от нее.
В конце концов от ватной белизны за бортом заболели глаза. Он отвернулся от невидимой воды и побрел к середине корабля, в сторону носа. Слева зевнула дверь лифта, но замыкаться в четырех стенах пока не хотелось – он достаточно намаялся в поезде. Ступив на борт, он сразу направился в свою каюту (A-класс, окно, ненужные телефон, телевизор и фен), оставил там сумку и после краткого визита в местный дьюти-фри поднялся на двенадцатую, прогулочную, палубу и прошел на корму – как будто чуял, что за ней начинается туманное шоу, хотя Хельсинки и встретил его на вокзале чистым небосводом со сверкающей солнечной бляхой. Ему никак не удавалось надышаться. Какие уж тут сигареты!
В кармане у него лежала бутылочка виски, купленная на борту, но начинать с тяжелой артиллерии не хотелось. Н. заказал у скучающего бармена в будочке «маргариту», подождал, сосредоточенно изучая грязно-белую стойку, и поплелся дальше. Впереди еще проглядывали клочки небесной лазури, однако призрачная мгла двигалась быстрей «Кантаты» и на глазах затягивала прорехи. На солнечную палубу они ступили одновременно с туманом. Обычно к шезлонгам, стульям и зонтикам было не пробиться, но сейчас конкуренцию Н. составлял лишь одинокий старик на дальнем конце площадки. Кажется, у него была жидкая рыжая бороденка, но ее наползающая пелена съела первой. Потом исчезли бледные руки, коричневое пальто и шляпа, а вскоре Н. едва разбирал очертания бокала на столике перед собой. Разве навигация в таких условиях разрешена? Еще одна сторона жизни, о которой ему ничего не известно. Впрочем, скандинавы ничего не делают на авось. Анника тоже всегда знала, чего хочет и как этого достичь. Кроме того, как удержать русского любовника, несчастливо женатого и с трясиной в голове.
Стояла тишина, особенно остро бьющая по ушам после того, что творилось на седьмой палубе, куда пассажиры «Кантаты» попадали сразу из посадочного терминала. Чрево судна, от носа до кормы, пятиэтажным ущельем рассекал променад – два ряда магазинов, баров, ресторанов, спа-салонов и непомерных цен. Окна некоторых верхних кают смотрели прямо в его светящуюся утробу. На входе струнный квартет играл «Голубой Дунай» (хотя Н. не считал себя суеверным человеком, напоминание о «Титанике» его не порадовало), но в пяти метрах воздушные ноты Штрауса терялись среди танцевальных ритмов, писка кассовых аппаратов, детских воплей и возбужденного гомона толпы, которая семнадцать часов спустя выльется на улицы Стокгольма. Поджидая лифт на девятой палубе, Н. как будто даже уловил снизу сердитые гармонии Вагнера. Уж лучше Штраус.
Теперь его слух почти что бездействовал, точно зрения было мало. «Кантата» прогудела единственный раз и умолкла – словно сонное чудовище зевнуло, почесалось и перевернулось на другой бок. Шелестели волны. И что-то еле слышно щелкало неподалеку – чик-чик, чик-чик, чик-чик. Чайка заблудилась в тумане? Лучше здесь и оставайся, дура.