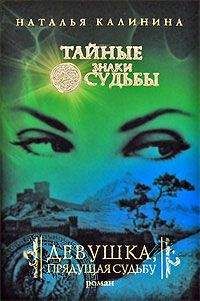— Да будет тебе, Катарина, — бормочет Каброн, бросая злобный взгляд на «хозяйку». — Ему полезно глотку промыть.
Пираты хохочут во все горло. Все, кроме Торо.
— Я сейчас тебе самому кое-что промою, — грозит Китти. — Не наигрался в плаванье? Сил много? Ты бы мне на шканцах[14] так перечил, как в «Шлюхиной корме».
— А шканцы у нас и есть… — успевает произнести Каброн перед тем, как двойной залп сносит ему пол-башки. Зарвался шутник. Можно подшучивать над юнгой, будь тот хоть граф-разграф, а вот оскорблять корабль, на котором ходишь по морям… Каброну, считай, повезло, что он умер от выстрела. Смерть под кнутом или на необитаемом острове — плохая смерть. Но дураки только такой и заслуживают.
Пута дель Дьябло и ее муж одинаковым жестом кладут на стол дымящиеся кремневые пистолеты, новейшее английское изобретение. Труп Каброна, расплескав мозги по стене, остывает под стойкой. В воздухе облаком сгущаются страх и недоумение.
— Всем всё ясно, — не спрашивая, а утверждая, произносит Торо. — Сесили… Сесил! Принеси нам еще пива. И себя не обидь… парень.
Китти, отвернув лицо, выдыхает чуть слышно, с облегчением. За годы своей пиратской карьеры она привыкла принимать быстрые рискованные решения. Вот бы еще научиться этим наслаждаться. И тут Шлюха Дьявола ощущает на себе взгляд — тяжелый, недобрый, изучающий. Над ней, сверля свою спасительницу глазами, стоит Уильям Сесил, какой-то там граф Солсбери, добыча абордажа, косорукий юнга, пиратская подстилка. Всего лишь стоит и смотрит. Но Кэт леденеет ото лба до самых пяток, столько холодной ярости сквозит во взгляде юного Сесила — и ни грана благодарности. Билли, похоже, злопамятен. И не собирается прощать, а тем паче благодарить. Он лишь выжидает удобного момента, чтобы нанести смертельный удар. И Шлюхе Дьявола очень повезет, если ее кончина будет такой же легкой, как у бедняги Каброна.
— Прошу, синьора, — произносит Сесил. Может, оттого, что он граф, у него получается произнести «синьора» так, что Кэт слышится «тупая обезьяна». Словно под гипнозом, принимает она из тонкой породистой руки тяжелую щербатую кружку. И в первый раз дивится тому, что пальцы юнги холодны и тверды, точно крюки протеза.
* * *
Ну и зачем мне твоя трудовая биография? — раздраженно спрашивает Катерина, когда эпизод в «Шлюхиной корме» вторгается в ее сознание. Что ты пытаешься мне сказать, Кэт? Почему не говоришь напрямую, а все в обход норовишь, притчами да намеками?
— Смирись. Это твое подсознание, детка. Оно не умеет говорить напрямую, — выдыхает Тайгерм, сползая по стене и устраиваясь рядом с Катей на полу кухни. Его бесконечные ноги, раскинувшись почти до противоположной стены, приковывают Катин взгляд помимо ее воли. Только сейчас Катерина замечает, что на Мореходе — ни нитки одежды, даже полотенца на бедрах — и того нет. В виски ударяет горячая шальная волна. Но все-таки они не будут тра… заниматься любовью, пока не прояснят кое-что.
— Ты правда собирался обрюхатить меня антихристом? — требует ответа Катя, отводя глаза и прижимая плед к груди — так, словно это не плед, а бронежилет.
И слышит тихий смех Тайгерма. Сильная мужская рука берет ее за подбородок и разворачивает обратно, чуть наклоняя. Катерина строго приказывает себе не пялиться, но все равно пялится и краснеет. А Мореход все смеется. Потом проводит по Катиным волосам:
— Это любимая ангельская страшилка, девочка. За тысячи лет я спал с тысячами женщин. Если не с сотнями тысяч. Да, я тот еще кобель, дорогая. Но детей им не делал.
— Почему? — Катерина больше хочет понять Тайгерма, чем… чем просто хочет.
— По той же причине, по которой Кэт подбрасывает тебе подсказку за подсказкой, ничего не объясняя. Я — бессознательное человечества. Бессознательное и бестелесное.
— Это ты-то бестелесное? — изумляется Катя, вспоминая, как тяжко, остро и больно толкался внутрь нее распаленный Денница.
— Здесь, в твоем и моем — в нашем — царстве Ид не такой уж я… — И Мореход накрывает пах рукой. Не столько накрывает, сколько демонстрирует, наглец. Катерина зажмуривается, чтобы не отвлекаться. Она же собиралась спросить про Лилит! И не успокоится, пока не узнает ВСЁ. — До чего ж ты упрямая… Лилит отняли у меня давно, так давно, что я почти забыл ее. Но не забыл своей обиды, благо то была не первая обида. Небеса привыкли лишать бедного Люцифера всего, что ему дорого — дома, женщины, предназначения. Им нравится осуждать падшего ангела за то, что он не сдох, рухнув в глубочайшую из ям, а вместо этого обустроил бездну под жилье. Какое-никакое, а жилье. И вот я, отец лжи, негодяй из негодяев, даю приют всем, кто недостаточно хорош для идеальных непрощающих небес.
— Подумать только, какое благородство! — фыркает Катя.
— Конечно, благородство, — без иронии подтверждает Тайгерм. — Думаешь, мне проще, чем ангелам, презирающим животные начала? Презирающим то, что воплощено в Лилит, то, что тянет нас друг к другу, вызывает желание и дарит наслаждение? Ты столько лет подряд убеждала себя, что они правы, прогоняла меня в снах, отворачивалась наяву — а смысл? Смотри на меня! Я сказал, смотри! — И жесткая ладонь пригибает Катину голову к мужским бедрам — туда, где жарко пульсирует, растет, выпрямляется. — Ну как, ты не передумала? Все еще хочешь разговаривать и разговаривать, пока не станешь достаточно старой?
— Не хочу, — шепчет Катерина пересохшим ртом. — Не хочу.
И разжимает руки, отпуская плед.
На этот раз никто сюда не войдет, обещает она себе. Я приму тебя, Денница. Я твоя.
* * *
Легко обещаться кому-то, когда желание застилает разум. В сетях лихорадочных прикосновений становишься мягкой и податливой, словно понемногу таешь внутри собственной брони. Для Кати в ту ночь весь мир ничего не значил, просто не было его, мира.
А потом пришло неизбежное, отрезвляющее утро.
Пыль плясала в солнечном столбе и все вокруг казалось одновременно сияющим и грязным. Плед выглядел так, будто им вытирали под диваном, а потом укрывались — долго укрывались, месяцы, если не годы. Собственное бедро в непристойных белесых разводах вызвало у Катерины брезгливое чувство. Мужская подмышка возле Катиной щеки пахла диким зверем. И свет бил по глазам, отчего-то падая не сбоку, из кухонного окна, а с потолка, где никаких окон в советской квартире не было и быть не могло. Но до поры до времени Катя решила про эту странность забыть, отвлекшись на боль и ломоту: привычные к мягким кроватям бока ныли от лежания на полу, тянуло шею от не самой удобной на свете подушки — мужского бицепса, от засохшего пота — своего и чужого — тело чесалось от макушки до пят, буквально. И невыносимо хотелось сбежать куда-то, где не будет Морехода, мерно дышащего рядом, где паника накроет Катерину угарной волной и внутренний голос, перебивая сам себя, сможет задать сотню вопросов, ни на один из которых у Кати не будет ответа. Под давлением страха и отвращения воздушные замки, ночью казавшиеся такими прочными, развеются. Вечность любви заканчивалась прямо здесь, под безжалостными утренними лучами, на каменной плите, едва прикрытой сбившимся пледом… На каменной плите?