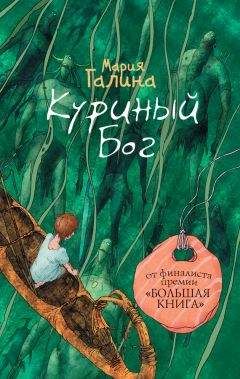— А дикие звери тут водятся? — спросила она, просто чтобы не молчать.
— Барсуки, — ответил Винченцо, — лисы. Пятнистый олень. Его раньше называли королевским, знаете?
— Волки? Медведи?
— Что вы! Иначе мы бы с вами не сидели здесь. Разве мы бы позволили, чтобы нашим гостям грозила хоть какая-то опасность? Чем вы занимаетесь у себя дома?
Он тоже говорит, просто чтобы поддержать разговор… Все так делают.
— Ничем. Учусь.
— У вас, наверное, много друзей.
У нее вообще не было друзей. Алевтинка не в счет. У нее было совершенно четкое ощущение, что Алевтинка терпит ее только потому, что самоутверждается на ее фоне.
— Знаете, — Винченцо откинулся на локте, — я должен… извиниться перед вами. Я ведь обязан был устроить вам какую-нибудь экскурсию. Мы тщательно подбираем группы, чтобы спутники подходили друг другу. Чтобы между ними завязывались прочные отношения, которые могут продолжаться потом, по возвращении. Вы удивитесь, сколько судеб изменилось навсегда благодаря таким вот случайным встречам. Но я… воспользовался возможностью… Мне просто нравится на вас смотреть. Видеть вас. И я подумал…
Если бы это слышала Алевтинка, она бы удавилась от зависти.
— Ну, ведь, подумал я, вреда нет. Есть еще время, завтра мы постараемся устроить для вас что-то особенное. Совершенно эксклюзивное. А зато я…
Это он мне говорит? Мне?
— Знаете, какая женщина привлекательней всех? Та, что не осознает своей красоты. Вы ведете себя так, как будто… как будто ненавидите себя. Если женщина хороша собой, это придает ей неотразимый шарм.
Он издевается, что ли?
— У нас на юге… откуда я родом… таких женщин носят на руках. Ради них совершают безумства. Тициан рисовал таких. Он понимал в этом. Прожил почти сто лет и скончался от чумы, ухаживая за больным сыном. Однажды, когда он уронил кисть, сам император счел за честь поднять эту кисть — для него…
Теперь он наклонялся к ней, рука, горячая и сухая, легла ей на бедро, на ее ужасное, толстое бедро, переместилась выше. Зеленый свет смыкался над ними, они были точно на дне моря. Вот же паскудство, сколько раз она воображала себе, как это случится, именно так вот, с таким вот партнером, с таким красавцем, на таком вот пикнике…
Она оттолкнула его руку и вскочила, неуклюже, задев серебряное, покрытое сыпью водяных капель ведерко, откуда торчало высокое горлышко бутылки вина. Того самого, которое, если так посмотреть — розовое, а если так — зеленоватое. Ведерко упало набок, из него вывалились подтаявшие кубики льда.
— Вранье! — закричала она пронзительно; в запотевшем боку ведерка отразилось ее лицо, искаженное, с ушедшим назад лбом и кривым носом-рыльцем. — Все это вранье! Это для того, чтобы я… была всем довольна, да? Чтобы все так, как мне хотелось? Вот паскудство, вся ваша паршивая страна, весь ваш паршивый туризм… Я… я папе пожалуюсь!
Она заплакала, толстые плечи тряслись под натянувшейся майкой с розовым сердечком на груди, но ей было все равно, как она выглядит.
Теперь он гладил ее по голове, пытался обнять и прижать к себе, словно он и был папой, которому она хотела жаловаться.
— Что ты, — бормотал он, — что ты, ну прости, ты, оказывается, еще совсем маленькая, ну… ты была такая красивая, я просто… Ну на́ вот носовой платок, ну-ка вот так… прости меня, дурака…
— Я пожалуюсь папе, он пожалуется вашему начальству, и вас уволят, — сказала она мстительно и шумно сморкнулась в платок.
— Но у меня нет начальства, — он опять улыбался, но уже по-другому, как-то очень по-домашнему, беззащитно, — я и есть начальство. Ну, хочешь, я сам себя уволю? Вот приедем, и сразу уволю…
— Мы для наших гостей, — передразнила она, и лицо ее жалко скривилось, — бла-бла-бла…
Лошадь все так же стояла, опустив голову в низкий куст, и шумно вздыхала, объедая ветки. Лучи падали теперь косо, и в них парили стайки всякой воздушной мелочи.
— Хотел тебе понравиться. Расхвастался. Извини. — Он вздохнул, нагнулся и стал собирать остатки пикника в большой пластиковый пакет. — Тут не полагается сорить, знаешь ли, — бормотал он; движения его показались ей суетливыми и неловкими, — за это ого-го какой штраф! Ужасный просто штраф!
Она тяжело забралась в повозку, уже не заботясь о том, изящно ли это у нее получается, — все равно лицо пошло красными пятнами, как всегда, если она плакала, нос распух, а под глазами — багровые круги. Ну и фиг с ним.
Он уселся на место кучера (облучок — так это называется?), подобрал поводья. Вид у него был виноватый и какой-то пришибленный, он даже не казался больше таким уж красивым.
— Ладно, — сказала она великодушно и вытерла нос тыльной стороной ладони, — не надо увольняться. Живите.
Назад они ехали мирно, как брат с сестрой, словно то, что случилось между ними, давало ей право не стараться больше ему понравиться, и оттого, что можно выглядеть глупой или смешной, она испытала странное облегчение, даже попросила, чтобы он дал ей вожжи, и какое-то время причмокивала, потряхивала и тянула, пока не надоело. А надоело быстро — править лошадью, оказывается, не так уж и интересно. Просто такое занятие — и все.
* * *
Отец еще не вернулся с рыбалки, да и матери нигде не было видно. Сколько можно торчать в этих самых бутиках? Лучше бы она поехала с матерью и с этой Броневской, что ли… По крайней мере, сейчас было бы не так паршиво. Хотя мало радости смотреть на себя в зеркало, а когда торчишь в примерочных, без этого никак.
Зато Пасик сидел на веранде, ел мороженое и болтал ногами. Он вроде был в хорошем настроении, потому что улыбнулся ей. Все-таки Пасик лапушка. Странно, что они, несмотря ни на что, ладят. Может, вся беда в том, что он слишком впечатлительный? Дома ему даже телевизор смотреть и то запрещали.
— Привет. — Она присела рядом и улыбнулась. Ну да, Пасик, конечно, странный, но ей иногда казалось, что он нормальнее всех. Хорошо все-таки, когда есть братик. Интересно, с кем он ездил в эти самые копи?
— У тебя майка в зелени. — Пасик облизнул ложку.
Она оглядела себя.
— А, да.
Это, наверное, она на гадском пикнике вытерла о майку руку и не заметила. На белом всегда все видно.
— Ты с кем-то валялась?
— Пасик, ты что? — Она беспомощно открывала и закрывала рот, словно вытащенная из воды рыба.
— Раз майка в зелени, — пояснил Пасик и вновь запустил ложку в мороженое. Мороженое было слеплено из трех шариков: розового, белого и коричневого. И сверху посыпано чем-то, ореховой крошкой, что ли.
— Я была на пикнике.
— Я и говорю. — Он набрал в ложку мороженое сразу с трех шариков. — У них тут здо́рово!