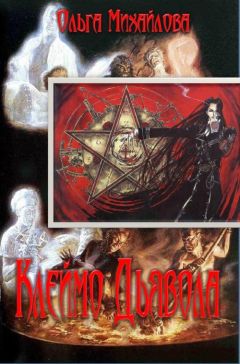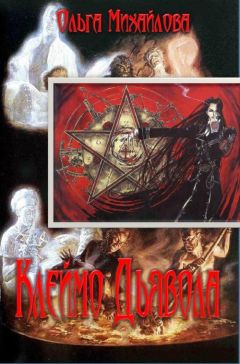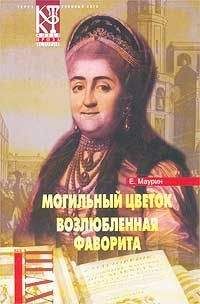…Под древними гербами, увитыми змеями, мелькнули знакомые если не по написанию, то по звучанию фамилии Midgard и Niеrach… Глава одного из родов — по имени Бенедикт — продал душу дьяволу за бессмертие, а представительница другого — свыше двух веков продлевала свою жизнь, научившись красть жизненные силы своих молодых любовников…
…Бартоломео Микеле ди Фьезоле, ученый-книжник и мистик, в 1443 в Ломбардии обвинен в колдовстве и ереси. Сожжён. Некий Джон Утгарт, моряк, выгнан из деревушки Вудли по подозрению в колдовстве и наведении порчи…
Но некоторые имена не попадались нигде.
— Невер! Откуда Вы родом?
— Из Ньевра.
— Вы по виду и манерам — из скромных рядов древней аристократии…
— Невер — это не полная, но родовая фамилия. — Морис пожал плечами и усмехнулся. — После 9 термидора нам вернули замок Нуар Невер и земли, но мой дед — Арман-Франсуа — предпочел оставить фамилию, взятую прадедом после 1789. Тот — Гийом Донасьен де Нуар-Невер — стал именоваться просто Гийомом Невером. Несколько раз он чудом ускользал от собратьев аррасского адвоката. Я слышал, что он был весьма низкого мнения о своих соотечественниках, и ожидал новых бурь, что, кстати, говорит о большой прозорливости. Тогда же он, говорят, заявил, что если на вершине иерархической лестницы стоит не трон, а гильотина, карабкаться по ней слишком рьяно — глупо. Дед же продал замок, обратив имущество в ценные бумаги, купил скромный дом в пригороде Парижа и имение в провинции, и усиленно изображал буржуа. Даже во времена Реставрации предпочёл не высовываться, правда, снова стал зваться де Невером. При этом, и прадед, и дед в каких только передрягах не бывали, но всегда выскальзывали без единой царапины.
— Немудрено. А ваш отец?
— Фактически, дворянин-рантье в третьем поколении. Не мне судить, но безделье очень угнетало его. Он увлёкся какими-то опытами с сурьмой и сулемой. Его нашли мёртвым в своей лаборатории, когда мне было семнадцать. В тот день он зашёл пожелать мне доброго утра и сказал, что видел во сне мать. Это было так странно. Он вообще никогда со мной о ней не говорил.
— А кто была ваша мать?
— Тоже, как вы выражаетесь, из скромных рядов древней аристократии. Их семья в родстве с Шатобрианами. Прожила она, правда, мало. Мне и трёх лет не было, когда её не стало. Кормилица говорила, что она была удивительно красива. Как ангел. Впрочем, из-за отца, это мой камердинер сплетничал, ещё до моего рождения несколько дам высшего света просто передрались. Говорят, знаменитый своей красотой де Руайе в сравнении с ним казался просто уродом.
Хамал промолчал. Комментарии не требовались. Он ещё некоторое время внимательно наблюдал за Невером, рассеяно глядящим в окно, а потом неожиданно обратился к нему.
— Вы это всерьёз?
Невер взглянул на Гиллеля.
— Что?
— Я говорю о вашей мысли, что красота — обуза, и вы готовы поменяться внешностью с любым из нас.
Морис пожал плечами.
— Поймите, Хамал. Для женщины красота — в известной мере компенсация за внутреннюю пустоту. Да, говорим мы, пустышка, дурочка, но зато — какая красавица! А для мужчины, одаренного этим никчемным женским даром, всё иначе. Его красота как дворянство. Только обязывает. Вам ничего не прощается. Если вы в чём-то несовершенны, спрашивают, — по какому праву вы тогда так красивы?! Не говорю и ещё об одном обстоятельстве. Помните, когда мы после похорон Лили пришли к вам с Эммануэлем?
— Конечно.
— Вы же тогда, я прочёл это по вашему лицу, были не только рассержены тем, что вас раскусили, но и изумлены тем, что это сделал я. А всё потому, что не принимали меня всерьёз. Но почему не принимали-то? Если задумаетесь, поймёте. Вы подсознательно склонны были считать красавца глупцом, хотя никаких оснований для этого у вас не было.
Хамал закусил губу и усмехнулся, а Невер между тем продолжал:
— Есть и другие неприятные моменты. Вас почему-то считают созданным для любви, и любая девица претендует на вас как на возможную собственность. А мне, извините, Хамал, как и любому мужчине, хочется принадлежать, прежде всего, самому себе.
— Проще говоря, чем больше в красавце мужчины, тем больше он ненавидит свою красоту?
Невер подумал и кивнул.
— Мне нравится ваша формулировка.
Хамал продолжал свои изыскания. Дом Риммона и Скала Риммона попадались ему в Книге Навина, в Книге Царств, у Неемии и Захарии. А вот — Черный род Риммон из Дамаска. Дьяволопоклонники. Волхователи. Факиры. Спасаясь от преследований, в десятом веке перебираются в Европу…
— Сиррах, вы совсем ничего не знаете о корнях своего рода? Вы не евреи? — осторожно спросил Хамал Риммона.
— Я осиротел в двенадцать лет. Но помню, мать говорила, что наши далекие предки — сирийцы.
Хамал счёл за благо прекратить расспросы и углубился в архитектурные исследования.
Но не все, подобно Хамалу извлекали из книг интересные сведения. Гиллель, пришедший как-то к Эммануэлю в спальню пожелать доброй ночи, несколько минут удивлённо следил за Ригелем. Лицо Ману было искажено, но в неверном свете пламени камина трудно было понять его гримасу. Эммануэль медленно рвал книгу и бросал листы в огонь.
— Что вы делаете, Эммануэль?
Ригель повернулся к нему. Нет, он лишь показался взволнованным. Черты были как обычно бесстрастны, лишь нижняя губа была брезгливо оттопырена, а в тёмных глазах, казавшихся почти чёрными, застыла тоска.
— Я… замёрз.
Хамал окинул взглядом вязанку дров около камина.
— Не лучше ли использовать их? Жечь книги?
— Почему нет?
— Эммануэль!
Ригель поднял на него смиренный взгляд, исполненный муки и кротости.
— Простите меня, Хамал. — Ману оторвал от книги титульный лист и положил в огонь. — Я напоминаю вам, должно быть, Савонаролу или Торквемаду?
— Скорее, молодого Лойолу. Но это не меняет дела.
— Я понимаю.
— Это что — желтый роман?
— Нет.
Эммануэль, бросив в огонь переплет, осторожно подвинул его кочергой подальше в огонь. Хамал прочёл на обложке имя Гельвеция.
— Господи, он-то чем вам не угодил?
— Это ужасно, Гилберт. Я только сейчас осознал это. Это непостижимо и страшно. Как объяснить, что книга, которая, казалось бы, битком набита высокими словами о человеческом достоинстве и благородстве, гораздо отвратительней и непристойней любого бульварного желтого романа? Его пошлость удручающа. Ничтожество и мерзость всегда ищут низость в основании любого поступка и события. Завистник, сребролюбец и развратник везде будет видеть только зависть, денежный расчет и разврат. Даже в Боге. Как они пошлы, все эти упорные утописты, превращающие человеческую природу в абстракцию, творцы женской эмансипации, разрушители семьи, составители обезьяньей родословной, чье имя ещё недавно звучало как ругательство, а сегодня стало последним словом науки! Это ужасно.