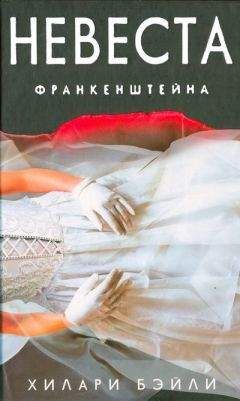Уже позднее, после того как Мортимер подобрал Марию и устроил ее судьбу, она услышала, что я в Лондоне (единственное, что знала она обо мне, — это мое имя). Когда я попался в расставленные ею сети, она немного поиграла со мной, затем убила мою жену и ребенка и еще немного потешилась надо мной, заставила меня, как верного пса, волочиться за ней. Я лежал под этой женщиной, ее сильные руки придавили меня к кровати, ее волосы спадали мне на лицо и слепили глаза. И тогда — как будто всего этого было недостаточно — она сказала мне с улыбкой: «Адам здесь! Я уже давно прячу его в твоем саду». Потом она еще ближе придвинула свое лицо к моему и произнесла: «Каждый день мы встречались в его потайном местечке. Я крала у тебя для него пищу. Ты удивлен? Каждый день, час за часом я отдавалась ему! Что, смешно? Он любит меня, Виктор Франкенштейн, а я люблю его! Мы не можем любить больше никого, потому что любим только друг друга. А теперь мы здесь, мы оба здесь, в этом доме, а ты, создавший нас и обращавшийся с нами как тебе заблагорассудится, когда понял, что не можешь нас полюбить, — ты умрешь теперь сам на наших руках!»
Когда-то я боялся того, что беззащитная и хрупкая Мария попадет в руки безобразного мычащего монстра. И вот теперь дверь в мою спальню распахнулась, и на пороге оказался он! В дверном проеме я увидел огромную фигуру того самого человека, которого я создал, услышал его тяжелые шаги, почувствовал, как он схватил меня своими огромными ручищами, словно ребенок куклу, и увидел прямо перед собой его дикое, злорадствующее лицо. Кричать я не мог.
Не прилагая никаких усилий, он стащил меня с кровати, перебросил через плечо и побежал вместе со мной вниз. Он держал меня в гостиной у окна. Руки мои были связаны, а ноги едва касались пола. Это она, Мария, стоя в ночной сорочке, в неистовстве резала меня и колола ножом, приговаривая: «Это тебе за удары! А это за голод! Ты не знаешь, что такое голод! Это за холод! За плеть! За цепи!»
Я помню, что упал, помню звук разбитого стекла. Наверное, этот зверь, убегая, выпрыгнул через окно. Помню еще, что Мария склонилась надо мной и низким глухим голосом проговорила мне прямо в лицо: «Ну а теперь умирай, мой дорогой создатель, умирай, создатель моего Адама. Теперь умирай!» Должно быть, в таком положении ее и нашли вошедшие в комнату люди и решили, что она плачет над моими ранами. Об этом мне уже ничего не известно, так как я потерял сознание.
Вот, Джонатан, об этом ужасе я и хотел тебе рассказать. Прости меня, дорогой мой друг, прости, что я использовал тебя для того, чтобы скрыть свою страсть к Марии. Прости, что обманул тебя ради того, чтобы выгородить самого себя, когда ты докопался до правды. Мне невыносима была мысль о том, что все узнают, какие злодейства я совершил. Мысль о том, что путь в рай для меня заказан с той самой минуты, как я совершил свое ужасное падение, была для меня ужасной. Я знаю, мне не на что надеяться в этой жизни, и в дальнейшем уже ничего не изменить. Видимо, я буду проклят навечно.
Прости меня, Джонатан, и помолись, если захочешь.
И еще, ради всего святого, убереги себя и свою семью от всей той мерзости, которую я совершил. А те двое убегут, и я не думаю, что их поймают. Берегись их, заклинаю.
Храни тебя Бог, дорогой мой друг. Ты был верен своему непутевому товарищу и не оставил его в беде. Если сможешь, прошу тебя, помолись за меня, Виктора Франкенштейна, как бы мало ни заслужил я твоей молитвы…
О боже! Я не могу не написать послесловие к ужасной истории Виктора Франкенштейна, несчастнейшего из людей, живших когда-либо на этой планете, собственными руками сотворившего все свои несчастья. И воистину мне есть что добавить. Не исключено, что вы воспримете письмо Франкенштейна как бред человека, находящегося в предсмертной лихорадке. Я и сам очень часто пытался убедить себя в том, что все это выдумки. Увы! Слишком много свидетельств, подтверждающих, что все рассказанное имело место в реальности.
Если вы помните, я читал это признание на Грейз-Инн-роуд в тот самый день, когда Франкенштейн скончался. Как и любого человека, который бы взялся за чтение этих записей, меня охватила волна ужаса и сомнений. Призрачные формы, окружавшие меня, были не менее страшны, чем леденящие душу признания.
Какие же опасные вопросы о человеческом разуме и знаниях поднимались в этом письме!
Я не обратил никакого внимания на предупреждение Виктора относительно сбежавшей и так и не пойманной пары полулюдей. Если все написанное было правдой, у них не имелось оснований нападать на меня. Если все написанное было правдой… Ибо поверить рассказу Виктора — значит поверить в то, что он сделал, а именно вернул из небытия двоих созданий, которые вовсе не должны были существовать, и сделал их подобными человеку!
Как в старой трагедии, Виктор бросил вызов богам, посягнул на их полномочия и страшно пострадал от своего честолюбивого замысла, гордости и тщеславия. Возможно, к этим грехам он добавил и еще один — бесчеловечность. Ибо хотя эти двое и являлись незаконнорожденными, не такими, как все мы, хоть они и были сделаны руками человека и затем выпущены на свет божий, хоть этих существ и вернули к жизни из могилы, где должен был мирно покоиться их прах, разве, несмотря на все это, не были они в какой-то степени людьми? Разве не были они по сути своей, пусть и в искаженном, извращенном виде, во многом такими же, как мы? Искусство Марии Клементи, страстная любовь чудовища к своей невесте — разве эти качества не свидетельствуют о том, что перед нами не просто звероподобные существа? Разве не близки они по своей природе к людям?
Мой друг не воспринимал их как людей, ибо они таковыми и не были. Но и животными они тоже не являлись, хотя он и обращался с ними именно как с животными. Он считал, что имеет право уничтожить их, как человек, который решает убить свою собаку, или хуже — как мясник, который каждый день закалывает на бойне скот. Мне кажется странным, что Виктор никогда, с самого начала и до последнего часа, не думал о том, как нужно обращаться с подобными существами, не размышлял он и о том, кем же на самом деле он для них является. Что же касается моей роли в этих событиях — то я здесь совсем не главное действующее лицо. Мою роль можно сравнить скорее с ролью певца в древнегреческой трагедии, изумленного и пораженного происходящим, но бессильного что-либо изменить.
Я уронил прочитанные мною бумаги на пол, пожалев о том, что они не могут сейчас навсегда исчезнуть. Я знал, что несчастный Виктор скоро и сам предстанет пред своим Творцом и что ему самому вот-вот будет вынесен окончательный приговор.