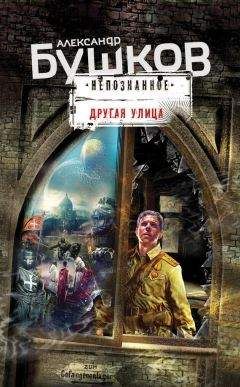Жена строевого майора, цивильный врач… Ничего интересного. Согласно тем же указаниям командирских жен точно так же полагается считать державой и передавать новой власти. В подвал ее к остальным – и вся недолга…
В подвал – дело нехитрое. Только оставил я себе напоследок ее фотографию на пляже – позу приняла завлекательную, бесовочка, руки за голову закинула, улыбается, явно майор фотографировал. Купальник на ней, я сразу определил, из модного варшавского конфекциона, здесь купленный. Мода, правда, двухлетней давности, но далее она не развивалась, потому что «великая польская держава» приказала долго жить, так и не распространившись от моря до моря, как они себе мечтали… Какое уж там нынче в Варшаве развитие модного конфекциона…
Посмотрел я на оригинал. Фигурка, грудки, ножки – все по высшему разряду. Смазливенькая, слов нет…
Ну а мне всего-то двадцать восемь, кровь играет. Со своей так в жизни не поступишь – но тут же советка, жена оккупанта, два года начищенными сапогами топтавшего украинскую землю… И подумал я: «Ни в каких указаниях и приказах не сказано, чтобы доставлять таких новой власти абсолютно нетронутыми. Все равно такая красоточка долго нетронутой не проходит, едва попадет в безпеку, там ее и разложат, знаю я тамошних ухарей…»
– Ну что же, пани Надия, – говорю я. – Присаживайтесь к столу, поговорим о жизни и о ее сложностях…
Она присела осторожненько напротив меня, спрашивает:
– Вы кто?
Я ей кратко объяснил, что мы не бандиты, а борцы за вольную Украину. Только она, как ни осторожничала, не удержалась от презрительной улыбочки: ну конечно, у нее идеологическая платформа другая, ничего удивительного. «Ладно, – думаю про себя, – нас называй как хочешь, это к делу отношения не имеет…»
Сам я ей улыбнулся исключительно вежливо.
– Ну что, – говорю, – Надийка, посмотрим, чему тебя муж научил за четыре года?
Надийка с искренним недоумением вопрошает:
– Вы о чем?
Я ей и объяснил простыми понятными словами, без единой непристойности, но предельно доходчиво. Как я и ожидал, красотка так и вскинулась: «Да как вы смеете, да я мужа люблю, лучше убейте, да ни за что…» Ну, вполне предсказуемо. От идеологии и не зависит, пожалуй что. Я же не такой циник, чтобы считать, будто на этом свете верных жен нет вовсе. Имеются в немалом количестве. Только не во всякий ситуации верность и сохранишь…
– Получается вовсе уж прекрасно, – говорю я. – Не с распутной девкой придется дело иметь, а с приличной женщиной, одного мужа меж ножек и допускавшей…
Она со стула так и взвилась, только Тарас не зря стоял у нее за спиной – положил лапы на плечи и успокоил на стуле, будто гвоздь в доску вбил. Не скажешь, чтобы верзила, но кряжистый и силы немалой. Убедительный человечина.
Дмитро просунулся вперед из-за моего плеча и попробовал было ее на голос взять – но я его утихомирил одним взглядом. Уж этого-то сопляка я давно отмуштровал со всем усердием: зелен еще – поперед батьки в пекло. Девятнадцать годочков. Всех его боевых подвигов во славу независимой Украины только и есть, что пристрелил вчера на улице старого жида, да и то в спину. Пан Володыевский, тоже мне…
– Давай, Надийка, подумаем рассудительно, – говорю я ей. – Ну куда тебе против нас трех, неслабых? Все равно не отобьешься, положат тебя, держать будут. Только это выйдет грубо, некрасиво, и синяк под глаз заработаешь, и порвем на тебе все… Давай обставим все культурно: сама разденешься, сама ляжешь, и обхождение с тобой будет без малейшей грубости.
Ах, как она меня послала нежными губками! Кто бы мог подумать, что слова такие знает. Даже парочку польских отпустила – уж им-то могла только здесь научиться.
– Ах, Надия, какая ты прелесть… – сказал я искренне. – Вот такая вот, красная от злости, лающаяся, как драгун.
И кивнул Тарасу. Тот понял, достал свой ножик, не раз побывавший в деле, приложил лезвие ей к нежной щечке и заговорил – упаси боже, не повышая голоса, без единого грубого слова, спокойно так, рассудительно, будто читал вслух неграмотным холопам инструкцию по обращению с механической жаткой и хотел, чтобы разобрались и запомнили с первого раза…
Ох, убедительный был человечина… Постарше меня лет на пятнадцать, в Движении с двадцать пятого года. Досье на него в дефензиве в кирпич толщиной, и в жандармерии был пытан, и из-под конвоя бежал, и смертный приговор на нем заочный висел до самого конца польской государственности. И пострелял он всякой сволочи столько, что устанешь считать. По совести, быть бы ему командиром вместо меня, хотя и я за пять лет кое-чем отметился. Но такова уж его натура, что в командиры он не стремился никогда. Бывают такие люди: исправный солдат, отличный исполнитель, вполне довольный своим положением и не стремящийся выйти хотя бы в ефрейторы. Крестьянская натура. Хотя он, строго говоря, и не крестьянин вовсе – просто из закарпатской глуши, чабаном был, лес сплавлял. Серьезные ремесла, кстати, не для слабых…
Ну и вот он, человек поживший, прекрасно знал, на какой слабинке играть. Как поступить с мужчиной в подобной ситуации, вы, пан капитан, наверняка знаете досконально. А с женщинами не приходилось? Нет… Сделайте зарубочку на память, мало ли как обернется. Иные женщины больше боятся потерять красоту, чем жизнь и честь. Инстинкт такой, что ли…
Вот Тарас ей, прикладывая к личику холодный ножичек, обстоятельно и растолковал, что он с ней этим ножичком проделает, если будет барахтаться. Жива останется, проживет, смотришь, еще сто лет – но от нее не только мужчины, лошади будут шарахаться.
И Надийку нашу проняло. Согласилась быть паинькой. Выставила одно условие: чтобы к ней заходили по одному. Что меня вполне устраивало, да и остальных, думаю, тоже: мы же не какие-нибудь варшавские криминальные гембы[6], чтобы из этого публичное зрелище устраивать…
В общем, наступил покой и согласие. Выставил я коньяк – ваш, кстати, отличный, армянский, мы в магазине реквизировали пару ящиков ввиду прекращения советской торговли и грядущей смены власти. Выпили мы по доброму стаканчику, налили Надийке – и она не отказалась, правда, по второму не стала.
Отвел я ее в спальню – бывшую докторскую, потом красного чина, а теперь мою, пригласил располагаться и вернулся к своим. Сбежать она оттуда не могла, на всех окнах первого этажа решетки прочные (очень опасался воров пан доктор, небедно жил). А если вздумает все же проявить гонор до конца, скрутить из разодранных простыней веревку да повеситься – не будет у нее столько времени, такие дела вмиг не делаются…
Мне вообще-то, как командиру, полагалось бы первому попробовать нашу красоточку – но Тарас, глядя в сторону, пробурчал:
– Друже командир, надо бы по справедливости… Жребием…
Будь это Дмитро, я бы его заткнул моментально. Но это ж Тарас. Фигура. Вот с ним портить отношения мне решительно не с руки. А обиду бы он затаил, точно. Потому-то по части прекрасного пола был не промах.
Разыграли быстренько и не мудрствуя – на спичках. И вышло так, что первым идти Дмитро, вторым мне, ну а Тарасу, соответственно, третьим. Я ничего не сказал, но про себя посмеялся: вот такое твое невезение, любитель справедливости. Не вылез бы со своим жребием, я бы тебя после себя пустил, вторым, а так настоишься в хвосте… Сопляк наш, предположим, наверняка отвалится быстро, много ли ему нужно, но я-то настроен с красавицей побаловать долго и обстоятельно… Тарас, видно, приуныл, но что тут скажешь – и жребий тянули честно, и предложил сам…
Выдал я Дмитро известный резиновый аптечный предмет и настрого приказал без него не работать. Мол, мало ли что от этой советки подцепить можно… Дурень даже растрогался от такой заботы командира о его юном здоровье – но я-то, признаться, о своем удобстве заботился, не хотелось мне, чтобы сопляк напаскудил ей там. Я-то сам намеревался без всяких аптечных штучек, чтоб лучше ее чувствовать, красоточку…
Пошел он в спальню. Смотреть – смех и грех: держится орлом, а у самого поджилки дрожат. Может, вообще еще женщину не пробовал, орел наш боевой.
Налили мы с Тарасом еще по стаканчику, опрокинули. Тарас усмехается:
– Не ерзай, друже командир, хлопчик, чую, там не загостится. От одного вида, глядишь, фонтан пустит.
– Да я и не ерзаю, – отвечаю я. – Я и сам так думаю…
И точно. Не загостился…
Грохнула вдруг дверь – и вылетает наш доблестный юнец из спальни как бомба. Едва не полетел кубарем, но удержался на ногах. Вид у него – умора: штаны с трусами до пола спущены, ножонки тонкие, незагорелые… Потом присмотрелся я – что-то не то: глаза у него навыкат, белый, как полотно, трясется весь и даже точно зубами постукивает:
– Дядьку Андрий… Дядьку Андрий…
«Что за черт, – думаю. – Неужели успела повеситься? Да нет, он бы тогда сразу выскочил, а он там пробыл столько, что мы с Тарасом успели не спеша и по стаканчику опрокинуть, и по сигаретке выкурить…»