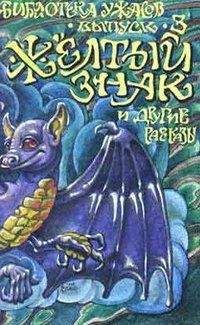Мы продолжали беседовать, не обращая внимания на сгущавшиеся вокруг нас тени, и она попросила меня выбросить заколку из оникса, потому что теперь мы поняли, что это и был Желтый Знак. Я никогда не узнаю, почему я отказался сделать это, и даже сейчас, когда я лежу в своей спальне и пишу эту исповедь, я бы многое отдал, чтобы понять, что же именно не позволило мне немедленно сорвать с себя Желтый Знак и швырнуть его в горящий камин. Я уверен, что именно так и хотел поступить, но все просьбы и мольбы Тэсси оказались тщетными. Наступила ночь, и время потекло медленней, а мы продолжали бормотать друг другу что-то о Короле к Бледной Маске, и вот где-то вдали городские часы пробили полночь. Мы говорили о Хастуре и Кассилде, а туман снаружи сгущался и клубами вертелся возле наших окон, подобно волнам у берегов Хали.
В доме стало необычайно тихо, и с улицы не доносилось ни звука. Тэсси улеглась на подушках, лицо ее было очень печальным, но она держала свои руки в моих, и я понимал, что теперь она знала и легко читала все мои мысли, так же, как и я — ее, ибо мы узнали тайну Гиад, и призрак Истины лежал перед нами. И пока мы быстро и молчаливо отвечали друг другу мыслью на мысль, тени зашевелились вокруг нас, и откуда-то издалека, с улицы, донесся звук. Он приближался — это было нудное поскрипывание колес, оно становилось все отчетливее и яснее, но перед самой дверью моего дома неожиданно стихло. Я с трудом подошел к окну и увидел внизу черный катафалк. Ворота открылись и закрылись снова, и я, трепеща, дополз до двери и запер ее на засов, хотя прекрасно знал, что никакие засовы и замки уже не могут спасти нас от того жуткого существа, которое пришло за Желтым Знаком. И вот я услышал, как он начал медленно подниматься по лестнице; Он подошел к двери, и засовы упали, разом прогнив от его прикосновения. Я в ужасе вытаращился в темноту, но так и не смог разглядеть, как он вошел в комнату. И только когда я почувствовал, что он обволакивает меня своими мягкими ледяными объятиями, я закричал и стал отбиваться, но руки плохо повиновались мне, и тогда он сорвал с меня ониксовую заколку, и я почувствовал сильный удар в лицо. Падая, я услышал, как вскрикнула Тэсси, и душа вылетела из ее тела, и в это мгновение я страстно желал одного — последовать за ней, ибо знал, что Король в желтом уже распахнул свою изорванную мантию, и теперь оставалось только молиться Богу.
Я могу рассказать и больше, но не знаю, какую пользу это принесет миру. Что же касается меня, то я уже потерял человеческую помощь и надежду. Я лежу сейчас и пишу это, и мне все равно, умру ли я раньше, чем закончу писать, или нет. Я вижу, как доктор, стоящий рядом со мной, собирает свои склянки и порошки и делает священнику жест, который понятен всем.
Конечно, многим будет очень интересно узнать о конце нашей трагедии — особенно тем, кто живет в этом мире, чтобы писать книги и издавать миллионы газет, но больше я ничего не скажу, и мои последние слова услышит только священник. А его уста будут запечатаны обетом сохранения тайны исповеди.
Да, пусть они пишут о человеческом горе, пусть газетчики наживают деньги на крови и слезах, но эти шпионы от меня ничего не услышат. Им известно, что Тэсси умерла, и что я тоже скоро умру. Им известно, что соседи, разбуженные моим нечеловеческим воплем, ворвались в комнату и нашли в ней живого меня и два трупа, но они не знают того, что я собираюсь сказать сейчас своему исповеднику, и никогда не узнают, что сказал доктор, указывая пальцем на ужасную бесформенную груду в углу мастерской — лиловато-синий труп церковного сторожа. А он сказал: "У меня нет ни гипотез, ни объяснений. Но этот человек мертв уже много месяцев!"
Мне кажется, я умираю. Как жаль, что священник…