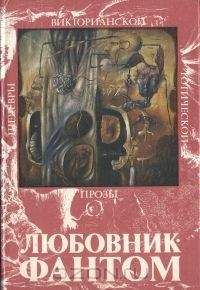Можете счесть это необъяснимой странностью, но не сознаться в ней было бы малодушием, поэтому добавлю, что, как ни решительно я был настроен скорее приступить к расследованию, которое торжественно обещал Роланду провести и от которого зависело его выздоровление, а может быть, и жизнь, мне очень не хотелось проходить мимо развалин. Лишь благодаря любопытству, которое было весьма возбуждено, мое сопротивлявшееся тело продвигалось вперед. Боюсь, что ученые люди объяснят мою трусость иначе — скажут, что она следствие болезни желудка. Я шел вперед, но, уступи я внутреннему побуждению, я повернул бы и со всех ног побежал назад. Казалось, все мое существо восстает против творимого над ним насилия: колотившееся сердце готово было выпрыгнуть из груди, в висках и ушах стучал кузнечный молот. Вокруг стояла кромешная тьма. Старый дом с обвалившейся башней чернел во мгле, столь же непроглядной, разве только менее плотной. Величественные кедры, которыми мы так гордились, заполонили собой ночь. В состоянии смятения я не заметил, как сошел с дорожки, и, тотчас наткнувшись на что-то твердое, не сдержал крика. Что это такое? Ощутив под пальцами твердость камня, шероховатость известки и колючки на стеблях куманики, я несколько опомнился. «Да это же фронтон старого дома», — проговорил я вслух с тихим смешком, чтобы приободриться. Прикосновение к грубой поверхности камня несколько отрезвило меня. Ощупав все вокруг, я избавился от наваждения. Что может быть естественней, чем сбиться в темноте с дороги? Эта мысль окончательно привела меня в чувство, как будто чья-то сильная и добрая рука стряхнула с меня все дурацкие страхи. До чего глупо! В конце концов, есть ли разница, какой дорогой я пойду? Я засмеялся вновь, на сей раз более искренно, и тут все внутри у меня похолодело, по спине пробежала дрожь, отказали все чувства: у самых моих ног раздался вздох. Я отпрянул, сердце ушло в пятки. Ошибки быть не могло! Я слышал вздох так же ясно, как собственную речь: долгий, тихий, усталый, так вздыхают всей грудью, чтобы выразить тяжесть, которая переполняет душу. Услышать такой вздох в кромешной тьме, в полном одиночестве и по ночному времени, правда, не слишком позднему, — невозможно сказать, как это на меня подействовало! Я и сейчас помню это чувство: мурашки бегают по телу и под волосами, похолодевшие ноги буквально приросли к земле. Срывающимся голосом я крикнул: «Кто здесь?». Никто не отозвался.
Не помню, как я добрался до дому. Зато всякое безучастие к обитавшему в руинах существу как рукой сняло. Мой скептицизм растаял, будто туман. Теперь, как и Роланд, я был уверен, что там кто-то есть. Я вовсе не старался убедить себя, будто это мистификация. В парке я слышал разные звуки, но то были звуки мне понятные: потрескивали на морозе мелкие веточки, похрустывали под ногами небольшие камешки на гравиевой дорожке — словом, раздавались те жутковатые ночные звуки, которые порою заставляют вас насторожиться и спросить себя, откуда они идут. Но так бывает, когда нет настоящей тайны. Но если вы слышите другое, все эти тихие естественные шелесты нимало не страшат вас. Их я понимал. А вздох — не понимал. То не было явление природы. Он был исполнен чувства, смысла, движения души невидимого существа. В вас все приходит в трепет, когда вы вдруг встречаете невидимое существо, наделенное чувствами, умеющее выразить себя. Мне больше не хотелось бежать оттуда, где разыгрывалось загадочное действие. И все-таки я опрометью бросился домой — на сей раз от нетерпения: я спешил скорей собраться и идти на поиски. В холле, как всегда, меня встретил Бэгли. После полудня он всегда занимал там пост, напустив на себя чрезвычайно занятой вид, хотя, сколько я знаю, занят ничем не был. Не задержавшись на пороге, так как дверь оказалась не заперта, я влетел в холл. Однако спокойное достоинство, с которым Бэгли двинулся вперед, чтобы принять у меня пальто, тотчас охладило меня. Все, из ряда вон выходящее, все, лишенное четкости и смысла, сникало в присутствии Бэгли. Глядя на него, вы не могли не восхищаться пробором в его волосах, бантом его белоснежного галстука, тем, как ловко сидят на нем панталоны, — все в нем было совершенство и шедевр, и главное, вы видели, как это ему дорого. Я, можно сказать, набросился на него, не дав себе времени подумать, насколько подобный человек не годится для моих планов.
— Бэгли, — обратился я к нему, — я хочу, чтобы сегодня ночью ты пошел со мной, нам нужно будет выследить…
— Воришек, полковник? — подхватил он, и тень удовольствия пробежала по его лицу.
— Нет, Бэгли, хуже, — ответил я.
— Слушаю, полковник. В котором часу выйдем, сэр? — осведомился он. Но я не стал объяснять ему тогда цель нашей экспедиции.
Мы вышли в десять часов вечера. В доме царила тишина. Жена была у Роланда, который, по ее словам, со времени моего приезда стал много спокойнее; правда, лихорадка делала свое дело, но чувствовал он себя лучше. Я посоветовал Бэгли надеть теплое пальто поверх сюртука (и так же поступил сам) и обуться в грубые башмаки. Отдавая ему приказания, я почти позабыл о том, куда мы собираемся. На дворе стало еще темнее, и Бэгли старался держаться ко мне поближе. В руке я держал маленький фонарик, который помогал нам выбирать направление. Мы дошли до поворота дорожки. С одной стороны находилась лужайка для игры в гольф, отданная на откуп девочкам, которые любили играть там в крокет, — очаровательная поляна, окруженная высокими зарослями трехсотлетнего остролиста, — с другой стороны лежали руины. Впрочем, темно было и тут, и там. По дороге к руинам виднелся небольшой просвет, где можно было разглядеть деревья и более светлую часть дороги. Я счел за благо остановиться там и перевести дух.
— Бэгли, — обратился я к своему спутнику, — в этих развалинах творится что-то неладное. Туда я и направляюсь. Смотри во все глаза и будь начеку. Бросайся на всякого, кого увидишь, мужчину или женщину. Не наноси увечья, но хватай, кто бы то ни был.
— Полковник, — ответил он с заметной дрожью в голосе, — говорят, тут водится что-то эдакое, вроде как не человеческое.
Однако было не до разговоров.
— Готов ли ты идти со мной, дружище? Вот что важно, — сказал я.
Не говоря ни слова, Бэгли стал навытяжку и отдал честь. Теперь я знал, что могу ничего не опасаться.
Насколько я мог судить, мы шли той же дорогой, что и я раньше, когда услышал вздох. Но мрак был столь непроницаем, что все приметы — деревья и дорожки — в нем тонули. Порой мы ощущали, что ступаем по гравию, порой — по скользкой траве, но не более того. Я выключил фонарь, чтобы не вспугнуть невидимку, кто бы он ни был. Бэгли, кажется, не отрывался от меня ни на шаг, а я старался держать направление на громаду разрушенного дома. Мы, видимо, брели довольно долго, отыскивая во мгле дорогу, о нашем продвижении свидетельствовала лишь чавкающая под ногами грязь. Наконец я остановился, чтобы осмотреться, вернее, угадать, где мы находимся. Было тихо, как всегда спокойной зимней ночью. Звуки, о которых я упоминал: хруст перекатывающихся под ногами камешков, потрескивание сучьев, шелест сухих листьев, шорох крадущегося во тьме зверька, — были ясно различимы, стоило лишь прислушаться, они могли показаться таинственными, если ваш ум не был поглощен другим. Мне они казались благодатными проявлениями жизни природы вопреки мертвящему дыханию мороза. Пока мы так стояли, из лесной низины донеслось протяжное уханье совы. Бэгли, нервы которого были напряжены до предела, дернулся от страха, хотя вряд ли мог бы объяснить, чего испугался. Но моему слуху этот звук был приятен и любезен: я знал, кому он принадлежит.