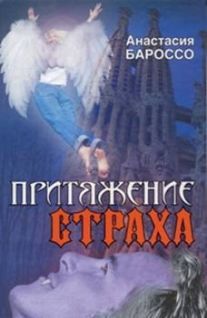Красное сказочное платье было безнадежно испорчено. И валялось скомканное, мокрое, рваное в углу комнатки, словно растекшаяся кровавая лужа.
Юлия с неожиданным удовольствием снова надела Джинсы и трикотажную кофту.
Антонио пришлось натянуть на себя влажную, грязную, окровавленную одежду.
Ураган чуть утих, но шторм бушевал с прежней силой. Огромные волны, разбиваясь о скалы, заливали открытую террасу «Минервы». С которой, конечно же, давно убрали все столики.
Бушующее море сделалось разноцветным. Вместо обычной, равномерно-матовой, бирюзы оно переливалось, словно перламутр внутренней стороны огромной раковины. Узкая полоса темной лазури у горизонта вливалась в молочно-зеленую, которая потом переходила в широкое, черно-фиолетовое пространство. Ближе к берегу, вода становилась изумрудно-синей, а еще ближе взбаламученный песок и мелкие ракушки взмывали вверх огромными волнами цвета «хаки», отороченными воздушными белыми кружевами. И разбиваясь о прибрежные скалы, выплескивались на набережную.
Холод и ветер были везде и повсюду, от них не было спасения даже на узких улочках городка. И Юлия, подчиняясь властному порыву, потащила Антонио к опустевшей набережной. Она чувствовала, что долго — а, может быть, уже никогда — не увидит этого места. И хотела запомнить…
Пока она заворожено смотрела на море, Антонио стоял позади, чуть поодаль. О чем он думал? Она не знала. Да и не имела большого желания знать его мысли.
Сама она вспоминала свою первую ночь здесь. Черный лак с напылением «металлик». Пьяный кураж, дающий ложные надежды… А потом еще — синее золото теплого моря. Прохладу и спасение, даруемые водой, и наконец… маленькую бухту. Ночной берег, мокрый песок под спиной. И темное лицо, медленно склоняющееся над ней…
«Трамонтана» была закрыта — что, впрочем, не удивительно. В такую погоду, в маленьком курортном городке, бессмысленно открывать подобные заведения. Но все-таки тревога сжала сердце нехорошим предчувствием.
Поэтому, они почти бежали по мокрым улицам, а потом ворвались без стука в квартирку на втором этаже.
Они не сразу заметили странную реакцию на их появление. То есть — почти отсутствие таковой. Все были здесь, но непривычная тишина царила в доме шумливого сеньора Мигеля.
Даже бесцеремонность, с которой Антонио, втолкнувший Юлию в кухню, продемонстрировал ей содержимое чужого холодильника — доверху забитого пакетами с замороженной кровью и физраствором, осталась незамеченной.
— Не стоит, — поморщилась Юлия, — я уже знаю…
В другое время, это привело бы хозяев в замешательство и выглядело бы несусветной наглостью. А теперь — Хуан только сделал слабую попытку воспротивиться, когда Антонио распахнул дверь в комнату Моники.
Она лежала в разобранной постели. И была словно без сознания. Капельница, уже не нужная, стояла в углу комнаты. Вместо нее у постели на табуретке сидел сеньор Мигель.
— Что с ней? — спросила Юлия, чтобы хоть что-то сказать.
Сеньор Мигель лишь поднял на них выпуклые, слезящиеся глаза, и подбородок его затрясся, мешая говорить.
— Дон Карлос…?! — прошептала она в ужасе, не желая знать ответ.
— Не только, — вздыхает Мигель.
— Себастьян? Он… Он был здесь сегодня?!!
Он кивает. И прячет лицо в толстых ладонях.
— Но почему — она?!!
Юлия кричит, нарушая тишину, окутавшую туманом этот печальный дом. Кричит, с удивлением понимая, что больше не в силах выносить несправедливость жизни. Хуан, успокаивая, словно это у нее, Юлии, случилось горе, кладет ей руку на плечо.
— Мама всегда говорила — что нам, с Хуанитой жить, а папа должен управлять агентством… — просто объясняет он.
— Понятно…
Склонившись над брусничной скатертью, Хуанита, абсолютно безучастная ко всему происходящему, создает очередной шедевр.
Вероятно, вдохновленная непогодой и мистической чернотой за окнами, молча и рьяно, она водит кисточкой по листу бумаги размером почти со стол. Свободная часть его завалена красками, баночками, кистями и карандашами. Она рисует, не обращая внимания ни на кого и ни на что… И ей можно только позавидовать.
Хуан, двигаясь, словно сонный зомби, дает Антонио свою одежду.
Лучше не видеть, как будут смотреться на его высокой, узкой фигуре холщовые брючки и клетчатая рубашка Хуана. Пока он сидит голый, закутанный в колючее одеяло, Хуан мажет какой-то вонючей мазью его ссадины и рану на голове.
О, ужас. Это значит — пока она отдавалась Карлосу в шелках и роскоши, Себастьян выпил всю кровь из Моники и…
Она застонала. Закачалась, сидя на диване. Сжала ладонями голову, раскалывающуюся от тоски и ужасных мыслей. Неразрешимых мыслей.
— Простите, сеньорита… Мы, вас предупреждали сразу… почти сразу.
Сеньор Мигель, как видно, истолковал это ее страдание по-своему.
— Мы не хотели этого, простите. Нужно было сказать вам все еще тогда… мы говорили…
— Да-да, говорили, говорили… Все нормально.
Хуан накрывает их обоих пледами и кормит супом, сваренным из улиток и мидий. Юлия почти не ест. Ее лихорадит — от вида и запаха этой еды. Убожество всего этого теперь, после дома на холме, так бросается в глаза! Каждая мелочь, раньше воспринимавшаяся, как должное, от пыли в углу прихожей до засохшей мухи между оконными рамами. И даже тонкая, почти незаметная трещинка на фаянсовой чашке, из которой она пьет жасминовый чай со слишком резким запахом, от которого уже мутит… Значит, она и вправду монстр. Еще худший, чем он.
И ведь она могла бы — нет, и сейчас еще может — ничего этого не видеть! Не чувствовать больничного запаха смерти, не видеть рук сеньора Мигеля, закрывших одутловатое лицо… Не помнить о глазах Антонио.
Она хочет только одного. Хочет вернуться в спальню с черной шелковой кроватью, камином и креслом. К Карлосу, который — и она знает это точно — который ждет ее. Все еще ждет. Тоска, острая и мучительная, сжимает желудок спазмами при одной мысли о силуэте на террасе третьего этажа.
Юлия решительно отставляет в сторону чашку с так и не выпитым остывшим чаем. Что он там сказал — у них только сутки, пока очнется Себастьян?
Только сутки! Большая часть, из которых уже прошла.
Юлия медленно подходит к Хуаните. Стоя у нее за спиной, вглядывается в акварельное изображение.
Там, на плотном шершавом листе разворачиваются жуткие сцены апокалипсиса — такие красивые и величественные, в присущей Хуаните фантастической манере. Они, тем не менее, поражают своей реалистичностью. При этом покой и какая-то безмятежная уверенность не сходят с лица художницы. И это — самое страшное, гораздо страшнее самой картины… Это так страшно, что Юлия немедленно произносит, громко и четко: