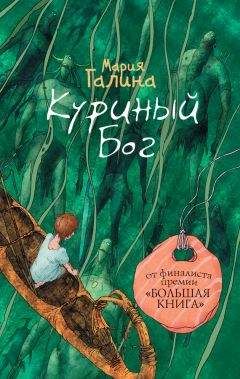Фома молчал, уставившись в стол.
— И нечего так смотреть…
Фома поднял голову.
— За что вы меня так ненавидите, Густав Томазович? — спросил он. — Может быть, вы тоже… тогда отвлеклись, задумались о чем-то и нарвались на растяжку? Свернули не по тому рукаву, потому что растерялись, потому что считали мух, и теперь ненавидите меня, потому что не можете же вы ненавидеть себя.
Что я говорю такое? — подумал он в ужасе.
В классе стало очень тихо. Ученики уставлились на Фому, рты приоткрыты, отчего ему показалось, что у всех по три глаза — два на обычном месте и один под носом.
— Во-он! — закричал Хромоножка не своим, каким-то бабьим голосом.
Фома, сопя, стал выбираться из-за стола.
— И еще мой папа говорит, — сказал он, — что кэлпи умнее, чем кажутся… И что кэлпи были всегда. Еще давным-давно, когда суши было много. Просто редко показывались людям. Они тогда воевали между собой, сказал папа, а нас боялись. А когда людей стало мало, вышли из укрытий. Это просто наши дальние родичи, которые в незапамятные времена пошли по своему пути… и еще…
— Передай своему отцу, чтобы он зашел ко мне, — сказал Хромоножка уже своим голосом, — а сейчас выйди из класса.
И Фома двинулся по проходу между столами.
Кто-то из учеников запустил ему в спину огрызком яблока.
* * *
— Я не пойду, Элата… — Фома уселся на песок, обхватив руками колени, словно замкнув свое решение в телесный замок.
— Ты должен, — сказал Элата, — ты наш бард.
— Я не ваш и не бард. Вы ошиблись, Элата. Вам нужен был не я. Я совсем не умею петь. У меня слуха нет. Даже мама просила, чтобы я не пел, когда она дома.
— Тебя выбрала дочь-сестра, а она не могла ошибиться. И ты наш. Мы любим тебя, значит, ты наш.
— Любите? — спросил Фома горько. — Вы украли меня. Вы напустили на меня вашего водяного коня. Вы что-то сделали со мной там, на острове. Я стал большим и остался маленьким.
— Это дочь-сестра, — прошептал Элата, прикрыв рот рукой, — это ее магия. И мы любим тебя, Фома. Разве прежние твои сородичи не насмехались над тобой? Разве они просили тебя спеть? Делились с тобой последним?
Фома молчал.
Элата пожал плечами. Говоря, он крепил к носу лодки потайной фонарь из плавательного пузыря рыбы-пластуна.
— Бард, — говорил он, не прерывая работы, — люби́м и неприкосновенен. И мы примем меры, чтобы твои же сородичи не выстрелили в тебя, Фома. Мы научились.
Фома немного подумал.
— Я могу спеть вам сейчас, — сказал он, — обо всем, о чем вы хотите. И вы отпустите меня потом?
— Ты уже пытался вернуться к своим, — покачал головой Элата, — и что из этого вышло? И ты будешь петь только о том, о чем сам захочешь, Фома. Никто не говорит бардам, что им петь.
— Никто? — Фома вытер нос рукой. — А если я спою вам, чтобы вы не воевали?
— Бард поет о подвигах, он поет о войне, о горячей крови, о храбрости друга, о доблести врага. А иначе какой же он бард?
Элата был очень горд. Это его гнездо нашло барда, хотя бы и среди проклятых белоруких, а значит, будет славный бой и остальные признают его, Элаты, первенство. Уже два гнезда присоединились к ним; их лодки покачивались на волнах, из уважения не касаясь земли соперников.
Получается, что, когда Фома мечтал о том, как вырастет, и станет героем-разведчиком вроде Леонида-истребителя, и будет пробираться по плавням, по их затокам и рукавам, кэлпи тоже мечтали о том, чтобы красться по затокам и рукавам и убивать людей? Получается, его правда равна их правде? Как это может быть? И значит ли это, подумал он вдруг, значит ли это, что кэлпи тоже не совсем взрослые?
— Зачем вы вообще воюете с нами? — попробовал он подойти с другой стороны.
На уроках истории Хромоножка говорил, что люди раньше воевали друг с другом и научились жить в мире, только когда их осталось очень мало. Потому что им пришлось сотрудничать, чтобы вместе добывать уголь, железо и нефть. Может быть, теперь кэлпи не воюют друг с другом, потому что их тоже осталось мало. А может быть, подумал Фома, люди теперь не воюют с людьми потому, что появились кэлпи?
— Люди убивают нас, — сказал Элата, — они травят нашу воду. Они втыкают железо в заповедные острова. Они ставят мины в протоках. Глушат нашу рыбу. Ловят нашу птицу. Они убили наших бардов.
— Людей мало, Элата, — повторил Фома то, что думал.
— Нас теперь тоже мало. — Элата достал откуда-то аккуратно обмотанный куском зеленой материи карабин и деловито щелкнул магазином.
Фома молча глядел на него, потом спросил:
— Что ты делаешь, Элата?
— Иду на войну, — сказал Элата. — Наше гнездо первое догадалось, что можно воевать, как вы. Машинками. Железом. — Он искоса поглядел на Фому. — Люди думают, мы боимся железа. Не можем дотронуться до него… Мы боимся вовсе не железа, Фома. Мы боялись ваших машин, потому что они лишали нас чести. Но мы учимся, Фома. И благодаря этому теперь у нас есть бард. Видишь эту железку, Фома? А теперь смотри, я откладываю ее в сторону. Потому что, если мы будем воевать машинами и железом, нам не нужен бард. Бард нужен тем, кто слаб, чтобы слабые стали сильными. Бард нужен тем, кого мало, тем, кто воюет против множества. Бард нужен, чтобы петь о подвигах. А разве нападать превосходящими силами — подвиг? Но если ты не пойдешь с нами, я возьму железку. И не только ее одну, Фома. У нас много оружия, которым можно воевать нечестно.
Элата вновь нагнулся и порылся в ворохе оружия.
— Вот, — сказал он, — стрелы. Мы не можем идти с голыми руками против ваших ружей, Фома, но ради тебя мы пощадим врага. А ты потом споешь об этом песню. Как прекрасно, храбро мы воевали — стрелы против ружей, потому что враг наш храбр и тем выше цена нашей славы. — Он взмахнул рукой, сжимающей стрелу за древко, и потревоженный горячий ночной воздух коснулся холодного лба Фомы.
В прибрежных зарослях возилась тихая ночная птица, в камышах плескалась нутрия. Фома слышал все эти звуки сразу, словно ночь была частью его самого. Как передать это Элате? — подумал он. — Как рассказать о тихих плавнях, о заводях, о ночном зверье, о ночи, не желающей, чтобы ее тревожили огнем и железом?
— Ты будешь петь о нашей доблести? — спросил Элата.
Фома молчал.
— Тетра, где твой карабин? — крикнул Элата в темноту. — Наш бард не идет с нами.
— Я пойду с вами, — сказал Фома. — Я буду петь вам…
* * *
Свет прожекторов очерчивал черным четкий рисунок скулы Элаты и подвязанные боевым узлом волосы. По черной воде плясали белые отблески. Казалось, из всех цветов остались только белый и черный.
— Тут вы добываете вашу горючую грязь, — сказал Элата, — а мы сейчас сделаем так, чтобы больше вы ее не добывали. По крайней мере, здесь. В этом месте.