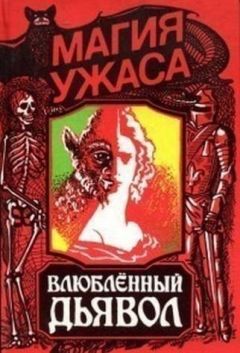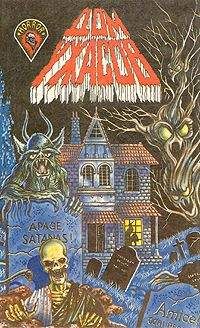Жду вашего ответа».
Прочитав это письмо, я вернул его Бьондетте.
— Ответьте этой женщине, что она сошла с ума. Вы лучше меня знаете, как это всё…
— Вы её знаете, дон Альвар? Вы ничего не опасаетесь с её стороны?
— Более всего я боюсь, чтобы она не стала мне докучать и впредь. Поэтому я решил покинуть её, и, чтобы наверное избавиться от неё, я сегодня же найму тот уютный домик на Бренте, который мне давно предлагают.
Я тотчас же оделся и отправился заключать сделку. Дорогой я размышлял над угрозами Олимпии. «Несчастная помешанная! — говорил я себе. — Она хочет убить…» Я никогда не мог, сам не знаю почему, вымолвить это слово.
Покончив с этим делом, я сразу же вернулся домой, пообедал и, боясь, как бы сила привычки не потянула меня вновь к куртизанке, решил до конца дня не выходить из дому.
Я взялся было за книгу, но не мог сосредоточиться на чтении и отложил её в сторону. Подошёл к окну, но людская толпа и разнообразие предметов, вместо того чтобы отвлечь, лишь раздражали меня. Я стал шагать по комнате из угла в угол, пытаясь обрести спокойствие духа в постоянном движении тела. Во время этого бесцельного хождения я случайно направил шаги в сторону тёмного чулана, куда мои слуги прятали всякие ненужные вещи. Я ещё ни разу не заглядывал туда; мне понравилось это укромное местечко, я присел на сундук, чтобы провести здесь несколько минут.
Вскоре в соседнем помещении послышался шорох. Узкая полоска света бросилась мне в глаза, и я разглядел в стене заложенную дверь. Свет проникал через замочную скважину, я заглянул в неё и увидел Бьондетту.
Она сидела за клавесином, скрестив руки, поза её выражала глубокую задумчивость. Но вот она прервала молчание.
— Бьондетта! Бьондетта! — воскликнула она. — Он зовёт меня Бьондетта. Это первое и единственное ласковое слово, вышедшее из его уст.
Она умолкла и вновь погрузилась в своё раздумье. Наконец, она положила руки на клавиши починенного ею клавесина. На пюпитре перед нею стояла закрытая нотная тетрадь. Она взяла несколько аккордов и запела вполголоса, аккомпанируя себе на клавесине.
Как я понял сразу, то, что она пела, не было законченным произведением. Прислушавшись внимательнее, я разобрал своё имя и имя Олимпии. Это была своего рода импровизация в прозе, где речь шла о её положении, о судьбе её соперницы, которая представлялась ей более завидной, чем её собственная, наконец, о моей суровости к ней и о подозрениях, вызывавших моё недоверие и препятствовавших моему счастью. Она повела бы меня к славе, богатству, знанию, а я составил бы её блаженство. «Увы! говорила она. — Это становится невозможным. Если бы он даже знал, кто я, мои бессильные чары не смогли бы удержать его; другой…» Волнение не дало ей закончить, слезы душили её. Она встала, взяла платок, вытерла глаза, снова подошла к инструменту и хотела сесть за него. Но так как слишком низкий стул стеснял её движения, она сняла с пюпитра нотную тетрадь, положила на табурет, села и снова начала играть.
Вскоре я понял, что эта вторая музыкальная сцена будет совсем в другом роде. Я узнал мотив баркаролы, в ту пору модной в Венеции. Дважды повторив его, она запела, на этот раз более внятно и отчётливо произнося следующие слова:
Ах, безумные мечтанья!
Был мне родиной эфир…
Для Альвара, для страданья
Покидаю вольный мир.
Позабыты блеск и сила…
Я смирилась до цепей…
Что ж судьба взамен сулила?
Рабской доли чашу пей!
Кони мчатся чрез равнины,
Всадник шпорит, но хранит…
Не вольны вы, стеснены вы,
Но не знаете обид.
Та рука, что вами правит,
Вас и холит иногда.
Бег невольный вас прославит,
Не позор для вас узда.
Уж к другой душа Альвара
Правит ветреный полёт!
Силою какого жара
Растопился сердца лёд?
Откровенною другую
Ты готов, Альвар, назвать.
Та пленяет, я ревную,
Не умею я пленять.
Милый, милый, подозренье
От любви ты удали.
Я с тобою — спасенье,
Ненавидишь — коль вдали,
Без причины я вздыхаю,
Я страдаю — это ложь,
Я молчу, я изменяю,
Разговор мой — острый нож.
Я обманута любовью,
И обманщицей слыву…
Отомсти, любовь, не кровью,
Пусть увидит наяву,
Наяву пускай узнает
Он меня, а не во сне,
И все чувства презирает,
Что влекутся не ко мне.
Уж соперница ликует,
Жребий мой в её руках…
Смерть, изгнанье ль мне диктует,
Ожидаю я в слезах.
Сердце, долго ль биться будешь?
Не ревнуй и не стучи.
Ты лишь ненависть пробудишь.
Я молчу и ты молчи!
Звук голоса, пение, смысл стихов и способ выражения — всё это привело меня в невыразимое замешательство. «Фантастическое создание, опасное наваждение! — воскликнул я, поспешно покидая свой тайник, где я оставался слишком долго. — Возможно ли более правдиво подражать природе и истине? Какое счастье, что я лишь сегодня узнал эту замочную скважину, иначе как часто приходил бы я сюда упиваться этим зрелищем, как легко и охотно поддавался бы этому самообману! Прочь отсюда! Завтра же уеду на Бренту! Сегодня же!»
Я тотчас же позвал слугу и велел отправить на гондоле всё необходимое, чтобы провести ночь в своём новом доме.
Мне было трудно дожидаться в гостинице наступления ночи. Я вышел из дому и отправился куда глаза глядят. На углу одной из улиц у входа в кафе мне показалось, что я вижу Бернадильо, того самого, кто сопровождал Соберано во время нашей прогулки в Портичи. «Ещё один призрак! — подумал я. — Кажется, они преследуют меня». Я сел в гондолу и изъездил всю Венецию, канал за каналом. Было одиннадцать часов вечера, когда я вернулся. Я хотел тотчас же отправиться на Бренту, но усталые гондольеры отказались везти меня, и пришлось послать за другими. Они явились; слуги, предупреждённые о моих намерениях, спустились впереди меня в гондолу, неся свои вещи. Бьондетта шла за мной. Не успел я встать обеими ногами на дно лодки, как пронзительный крик заставил меня обернуться. Кто-то в маске нанёс Бьондетте удар кинжалом. «Ты одержала верх! Так умри же, ненавистная соперница!»
Всё совершилось с такой быстротой, что один из гондольеров, остававшийся на берегу, не успел помешать этому. Он хотел было броситься на убийцу и замахнулся на него горящим факелом, но в это время другой человек в маске подбежал и оттолкнул его с угрожающим жестом и громовым окриком. Мне показалось, что это голос Бернадильо.