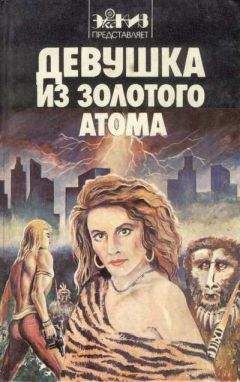Надо мной небоскребы Нью-Йорка.
По улице течет река машин. Неизвестно, в какой момент оседлают водителя ближайшей машины, а когда Наездник садится, на секунду нарушается координация движения. Так мы потеряли много жизней на улицах и скоростных шоссе — но ни одного Наездника.
Иду без всякой цели. Пересекаю Четырнадцатую стрит, слышу мощный рокот электрических двигателей. Вижу юношу, пляшущего на мостовой, и понимаю — он оседлан. На углу Пятой и Двадцать второй мне попадается цветущий толстяк — галстук набок, сегодняшняя «Уоллстрит джорнэл» свешивается из кармана пальто. Он хихикает. Он высовывает язык. Оседлан. Оседлан. Я обхожу его. Быстро дохожу до перехода, по которому транспорт сворачивает под Тридцать четвертую стрит и Куинз и секунду медлю, видя двух девочек на самой бровке пешеходной дорожки. Одна — негритянка, глаза выкачены от ужаса. Другая толкает ее все ближе к ограждению. Оседлана. Но Наездник не убивает — он просто наслаждается. Негритяночку отпускают, и она падает, как мешок, и дрожит. Потом вскакивает и убегает. Другая девочка начинает жевать длинную прядь блестящих волос. Понемногу приходит в себя. Она словно одурманена.
Я отвожу взгляд. Не принято смотреть, как приходит в себя товарищ по несчастью. Такова мораль оседланных: в эти мрачные дни у нашего племени появилось много новых обычаев.
Я начинаю идти быстрее.
А куда я так тороплюсь? Уже прошел больше мили. Я словно движусь к некоей цели, будто мой Наездник все еще прячется в моем черепе, понукая меня. Но я знаю, что это не так. По крайней мере в этот момент я свободен.
А как в этом убедиться?
«Cogito ergo sum» больше не подходит. Мы продолжаем думать, даже когда нас оседлают, и продолжаем жить в тихом отчаянии, не в силах остановить себя на пути к неизвестно какой мерзости, неизвестно насколько разрушительной… Я уверен, что могу отличить, когда несу Наездника и когда свободен. А может быть, и нет. Может быть, мне достался особо дьявольский Наездник, который меня вообще не оставляет, а просто забирается на время куда-то в мозжечок, даря мне иллюзию свободы и направляя меня в то же время к неведомой цели.
Было ли у нас что-то большее, чем иллюзия свободы?
Меня тревожит мысль, что могу быть оседлан и не знать этого. Меня прошибает пот и совсем не от ходьбы. Стоп. Остановись. Зачем тебе идти дальше? Ты на Сорок второй стрит. Вот и библиотека. Тебя никто не толкает дальше. Подожди, говорю я себе. Отдохни на ступеньках библиотеки.
Я сажусь на холодный камень и говорю себе, что решил это сам.
Так ли? Старая проблема — свободная воля против предопределенности гнуснейшей формы. Детерминизм больше не философская абстракция: это холодные чужие щупальца, проникающие сквозь черепные швы. Наездники появились три года назад. С тех пор меня захватывали пять раз. Наш мир стал абсолютно другим. Но мы приспособились даже к этому. Мы приспособились. У нас новая мораль. Жизнь продолжается. Правительство правит, законодатели заседают, биржа ведет обычные операции, а мы находим способ компенсировать наши потери. Этот единственный способ. А что еще мы можем сделать? Оплакивать поражение? Перед нами противник, с которым воевать нельзя; лучшее, что мы можем, — противопоставить ему терпение. Вот мы и терпим.
Каменные ступени холодны. Мало кто в декабре тут сидит.
Я говорю себе, что прошагал столько по собственному желанию, что остановился по собственному желанию, что сейчас в моем мозгу нет никакого Наездника. Может быть. Вполне возможно. Не могу себе позволить поверить, что я не свободен.
Может ли быть, думаю я, чтобы Наездник еще и закодировал меня — дойти сюда, остановиться здесь? Это тоже возможно. Оглядываюсь на других, кто стоит или идет по ступеням библиотеки.
Старик с пустыми глазами сидит на сложенной газете. Мальчик лет тринадцати с раздувающими ноздрями. Толстая женщина. Неужели они все захвачены? Похоже, вокруг меня сегодня просто роятся Наездники. Чем больше я смотрю на оседланных, тем больше убеждаюсь, что я, по крайней мере сейчас, свободен. Последний раз у меня между захватами было три месяца свободы.
Говорят, что некоторых вообще не отпускают. Их тела просто нарасхват, и им достаются лишь обрывки свободы день, неделя, час. Нам никогда не удавалось определить, сколько Наездников в нашем мире. Миллион? Или пять? Кто скажет…
Серое небо роняет снег. Центральный говорил, что вероятность осадков мала. Что, они в это утро и Компьютер оседлали?
Я вижу девушку.
Она сидит по диагонали от меня, ступенек на пять выше, в сотне футов; черная юбка, поднявшаяся на коленях, открывает очень красивые ноги. Она молода. У нее каштановые волосы насыщенного оттенка. Глаза светлые; на таком расстоянии мне трудно различить цвет. Одета просто. Ей меньше тридцати. На ней темно-зеленое пальто, помада пурпурная. Губы полные, тонкий нос с легкой горбинкой, глаза умело накрашены.
Я знаю ее.
Я провел три прошлые ночи в своей комнате с ней. Она. Та самая. Захваченная, она пришла ко мне; захваченный, я спал с ней. В этом я уверен. Завеса в памяти приоткрылась, я вижу ее стройное тело нагим в моей постели.
Как я могу это помнить?
Слишком сильное впечатление, чтобы быть иллюзией. Ясно, что мне позволено помнить это по не известным мне причинам. Я помню и больше. Помню, как она тихо постанывала от наслаждения. Я знаю, что мое тело не предало меня в эти три ночи, и я не обманул ее желаний. И даже больше. Воспоминания о плывущей музыке; запах от ее волос; шелест зимних деревьев. Каким-то образом она вернула меня в пору невинности, пору, когда я был молод, а девушки загадочны, пору вечеринок, танцев и тайн.
Теперь меня тянет к ней.
Для таких вещей тоже есть этикет. Дурным вкусом считается приставать к тем, кто встречался тебе захваченным. Это не дает никаких преимуществ: незнакомец есть незнакомец, что бы вы ни делали и что бы ни говорили во время вашего принудительного соединения…
И все равно меня тянет к ней.
Зачем осквернять табу? Зачем нарушать этикет? Прежде я так не делал. У меня были предрассудки.
Но сейчас я встаю и иду по ступени, на которой сидел, пока не оказываюсь напротив нее; поднимаю взгляд, и она бессознательно сдвигает и подгибает ноги, словно почувствовав нескромность позы. По этому я различаю, что и она сейчас свободна. Наши взгляды встречаются. У нее ярко-зеленые глаза. Она красива, и я ищу в памяти другие детали.
Я поднимаюсь по ступенькам и встаю перед ней.
— Здравствуйте, — говорю я.
Она равнодушно смотрит. Она явно не узнает меня. Глаза у нее затуманенные, какие бывают у тех, кого только что отпустил Наездник.