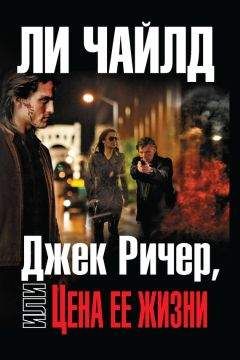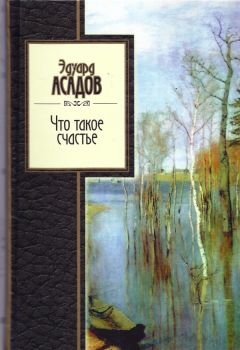Эдуард Асадов
«Дай, Джек, на счастье лапу мне»
Этой знаменитой, чуть измененной строкой частенько приветствую я Джека — моего давнишнего и задушевного приятеля, впрочем, теперь даже, может быть, уже и друга.
Никакой прославленной родословной у него нет. Джек — откровенная помесь чистокровной лайки с плебейской дворнягой. Но смотреть на него свысока было бы просто неприлично. С полной убежденностью говорю, что ни красотой, ни редким собачьим обаянием Джек абсолютно не уступил бы знаменитому качаловскому Джиму. А что до доброты и смышлености, то, честное слово, еще не известно, кому бы пришлось отдать пальму первенства!
Всякий раз, увидев меня на прогулке, Джек на мгновение замирает, затем, радостно взвизгнув, кидает вперед свое короткое, сплетенное из упругих мышц тело. И вот уже черной торпедой летит он вдоль улицы, почти не касаясь земли, все больше и больше набирая скорость. Метра за два до меня он делает толчок и, пролетев по воздуху оставшееся расстояние, носом и передними лапами вонзается в мой живот. Вслед за этим начинается что-то вроде радостно-первобытной пляски. Джек крутится со скоростью небольшой динамомашины, подпрыгивает, ставит на меня передние лапы, совершает самые замысловатые пируэты, идущие порой вразрез с элементарными законами физики, и изо всех сил старается непременно лизнуть меня в нос. И если, невзирая на мои протесты, ему это иногда удается, то восторгу Джека не бывает границ. Мы действительно давние и преданные друзья. Началось же это все с одного морозного, очень памятного, но не слишком приятного для меня вечера.
Подмосковный поселок Переделкино состоит, в основном, из писательских дач. А в центре его, так сказать, средоточье литературной мысли — Дом творчества, основным отличием которого от домов отдыха является то, что тут не столько отдыхают, сколько работают. Правда, не все. Обширный лесной участок дома обнесен высоким забором. Радиально от дома в разных направлениях бегут асфальтированные дорожки. Одну из них несколько лет тому назад я и облюбовал для своих ежедневных прогулок. Дорожка эта от веранды катится по участку под старыми тополями и соснами мимо нескольких коттеджей до небольшой калиточки, выходящей на улицу Серафимовича. Весь путь — двести пять моих шагов. Примерно полтораста метров. Дорожку эту я изучил досконально. Знаю на ней каждую ямочку и бугорок и топаю из конца в конец так же уверенно и привычно, как по своей квартире. Заложу руки за спину и шагаю летом по асфальту, зимой по утоптанному снегу туда-обратно, туда-обратно… Воздух славный, хорошо. Маршрут не только изучен, но и прохронометрирован. Тринадцать раз туда и тринадцать обратно — ровно час. Часов можно не вынимать. Все точно.
Случай, о котором я хочу рассказать, произошел, если мне память не изменяет, в декабре 1975 года. После относительно теплых, пушистых белоснежных дней стали закручивать холода. Мороз, как молодое хорошее вино, с каждым днем все больше и больше набирал градусы. В тот день ртутный столбик термометра съежился от стужи до такой степени, что спрятал свое заиндевевшее темечко где-то под фиолетовой цифрой 23 и в нерешительности замер: опускаться еще ниже или восстать против Деда-мороза и непокорно поползти вверх? Однако вышеупомянутый дед шутить не собирался и к вечеру упрятал макушку столбика под отметку 25. Так сказать, знай наших! Характер у деда серьезный.
Впрочем, если говорить обо мне, то я на свой характер тоже не собираюсь пенять. Без всяких колебаний, как всегда, ровно в девятнадцать тридцать я вышел на свою ежедневную вечернюю прогулку. Воздух был настолько морозным и звонким, что поезд, стучавший по рельсам километрах в двух отсюда, катился, казалось, совсем рядом, в трех шагах от тропы. Ольха и березки так замерзли, что как-то по-старушечьи сгорбились от стужи, прижались друг к другу макушками и опустили на тропу свои бессильные заиндевелые руки. Только сосны стояли прямые, важные и сосредоточенные. Даже в мороз они о чем-то думали. Мне кажется, что сосны постоянно о чем-нибудь размышляют… Когда же мороз их особенно донимает, то они недовольно потрескивают и сыплют вниз серебристую пыль.
Надо сказать, что вечер был не только студеным, но и удивительно тихим. Тишина эта усиливалась еще и тем обстоятельством, что все обитатели Дома были в кино, так что в саду, кроме меня, не было ни души. Заложив руки за спину, как всегда, ровным шагом ходил я по тропе и сосредоточенно обдумывал сюжет одного моего будущего стихотворения. Снег от холода не скрипел, а как-то звонко и весело повизгивал под ногами. Думать это не мешало, наоборот, равномерные звуки рождали какой-то ритм, помогали словно бы чеканить слово. Помню, что сначала мне не удавалось ухватить что-то главное. Оно все время, как будто дразня, появлялось где-то, ну совсем рядом, но, как только я протягивал за ним мысленно руку, мгновенно растворялось в холодном мраке. Но вот что-то стало налаживаться. Мне удалось поймать, как за ниточку, кончик мысли, и клубок начал раскручиваться. Видимо, я настолько углубился в свои думы, что совершенно забыл обо всем окружающем. И, чего уж со мной никогда не бывало, перестал где-то в тайниках моего сознания контролировать свой маршрут.
Как я умудрился выйти за калитку и не заметить этого, до сих пор не могу понять. Спохватился я только тогда, когда вдруг совершенно подспудно почувствовал что-то неладное. Моя тропинка оказалась вдруг неожиданно непривычно длинной. Ни веранды, ни калитки по концам ее не было. Я прошел еще немного вперед и остановился. Под ногами была не узенькая, знакомая тропа, а разъезженный машинами широкий и ухабистый путь…
Стало совершенно ясно, что я пришел куда-то совсем не туда. Но куда? Вот этого-то я как раз и не знал. Вынул часы, нащупал в темноте стрелку: ровно двадцать один ноль-ноль. Положение и дурацкое и драматическое в одно и то же время. Для человека, который, так сказать, может без труда обозревать окрестности, уйти за две-три сотни шагов от калитки — просто-напросто мелочь и чепуха! Но вот человеку в моем положении, при двадцатипятиградусном морозе, оказаться поздним вечером, при полном безлюдье, вдали от знакомой тропы — это едва ли не то же самое, что парашютисту опуститься зимней ночью в незнакомом лесу.
Решил немного постоять на месте. Может быть, пройдет мимо какая-нибудь живая душа. Но никакая «душа» мимо не прошла, а моя начала все больше и больше остывать. Вскоре стоять на месте стало попросту невозможно. Идти? Но куда? Вокруг канавы, сугробы и какие-то заборы. Большинство дач в поселке зимой пустуют. На некоторых есть во дворах только здоровенные, полуодичавшие от холода и одиночества псы, которых раз в сутки, приехав из города, снабжают костями и остатками какой-нибудь каши и снова уезжают в тепло и цивилизацию. Попасть хотя бы случайно во двор такой дачи — не самый надежный способ продлить свои дни. И тем не менее предпринимать что-то надо.
Топчусь на месте и чувствую, что начинаю самым серьезным образом замерзать. С каким-то холодным отчаянием вдруг подумал: до чего же все-таки нелепая вещь, вот стоит в двадцати километрах от Москвы, совсем не в пустыне, взрослый человек и самым что ни на есть нелепым образом стынет. Стынет, ибо не знает, куда податься. Не станешь же орать в морозную пустоту. Глупо, да и унизительно как-то. В самом деле, ведь не тайга, хотя самочувствие ничуть не лучше.
Чтобы окончательно не заледенеть, снова двинулся вперед. Ухнул в какой-то здоровенный сугроб. Выбрался с грехом пополам из кювета на ровное место. Сплюнул и тихо выругался. Чуточку вроде бы полегчало. Пассивность не в моем духе. Стоять и покорно коченеть на морозе в надежде на случайного прохожего как-то показалось обидным и глупым.
Где-то справа залаяла собака. Решил, пойду на собачий лай. Как-никак, где собака, там жилье. Правда, дача может быть пустой, ну а если нет? Если кто-нибудь там все-таки есть и услышит мой стук? Ну не сожрет же меня в конце концов дворовый пес, замерзать на дороге не лучше. Пойду на собачий лай! Пошел. Остановился, подождал нового лая и вновь двинулся дальше. По временам лаяли и другие псы. Но я уже выбрал и все время отличал «своего» от прочих разноголосых «солистов». Мне, кажется, повезло. Уперся не в забор, а в ворота. Пес залаял громче. И тогда очень тихо и проникновенно я ему сказал:
— Не надо на меня лаять. Погоди! Я не злой, просто я потерял дорогу и мне сейчас плохо. Можешь ли ты это понять?
То ли интонации моего голоса, то ли моя убежденность подействовали на пса, не знаю, но только он на минуту умолк и стал ко мне прислушиваться. Потом залаял снова, но, как мне показалось, без злости. Тогда я стал спиной к воротам и несколько раз постучал в доски каблуком. Пес залаял было снова, но я вновь сказал ему несколько успокаивающих дружеских слов и снова ударил каблуком в ворота. И тогда пес за воротами повел себя как-то странно: лай его начал то приближаться, то удаляться куда-то вглубь территории. Затем появился так близко, что мне показалось: выглядывает из подворотни, и снова стал уплывать куда-то вдаль. И что самое главное, лаял он совсем не так, как могла бы лаять собака, когда незнакомец колотит ногой в дверь. В таких случаях большинство собак буквально содрогаются от злости. А этот лаял не так: редко, встревоженно и без всякого раздражения. Так мне, по крайней мере, казалось. Прошло еще несколько минут. Пес куда-то убегал и возвращался вновь.