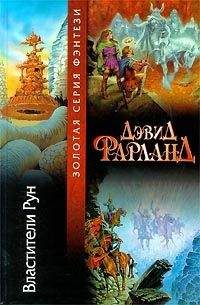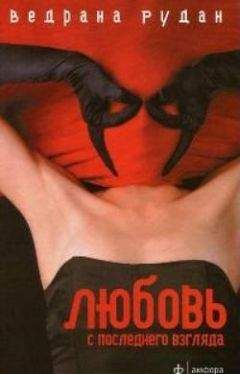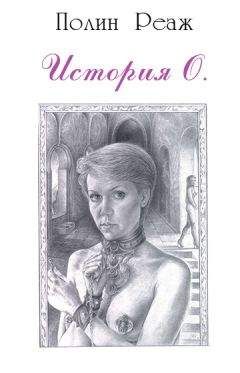Однако в ней не было ни малейших сомнений в том, что виновата именно она и что сам того не сознавая, Рене наказывает ее за это. О. бывала счастлива, когда возлюбленный отдавал ее другим мужчинам, когда по его приказу ее били плетьми, ибо знала, что для него ее абсолютная покорность есть доказательство того, что она безраздельно принадлежит ему, а значит -любит его. Она с радостью принимала боль и унижения еще и потому, что они казались ей искуплением за ее вину. Все эти объятия, вызывавшие у нее отвращение; руки, осквернявшие своими прикосновениями ее грудь; рты, всасывавшие ее язык и жевавшие ее губы; члены, с остервенением врывавшиеся в ее плоть и еще плети, пресекавшие любые попытки противления, - она прошла через них и превратилась в рабыню. Но, что если сэр Стивен прав? Что если она находила в унижениях особую прелесть? В таком случае, сделав из нее источник своего наслаждения, Рене, тем самым, сделал для нее же благо.
Когда-то, когда она была маленькой, она два месяца прожила в Англии. Там, на белой стене ее комнаты красными буквами были написаны слова, взятые из какой-то древней книги: "Нет ничего страшнее, чем попасть в руки живого Бога". Нет, думала она сейчас, куда ужаснее быть отвергнутым им. Каждый раз, стоило только Рене задержаться где-нибудь, как, например, сегодня -было уже почти семь - О. охватывала страшная тоска и отчаяние сжимало сердце. Все ее опасения оказывались глупыми и беспричинными - Рене приходил всегда. Он появлялся, целовал ее, говорил, что любит, говорил, что задержался на работе, что у него не было даже времени, чтобы позвонить, и мгновенно черно-белый мир, окружавший О. наполнялся красками - она вырывалась из удушливого ада своих подозрений. Но эти ожидания не проходили для нее бесследно, оставляя в душе тяжелый, неприятный осадок. Когда Рене не было рядом, она жила дурными предчувствиями где он, с кем. Возможно, когда-нибудь и придет тот день, когда эти предчувствия станут реальностью, и ад гостеприимно распахнет перед ней двери ее газовой камеры, кто знает. Ну, а пока она молчаливо заклинала Рене не оставлять ее и не лишать своей любви. Она не осмеливалась загадывать наперед и думала только о том, что будет с ней сегодня или завтра. И каждая ночь, проведенная с возлюбленным, была для нее как последняя.
Рене приехал только к семи. Он был так рад видеть ее, что не удержался и, обняв, принялся целовать, не обращая ни малейшего внимания на то, что в студии они были не одни. Кроме электрика, чинившего прожектор, и рыжеволосого мужчины, при этом присутствовала и заглянувшая сюда на минуту Жаклин.
- О, это просто очаровательно, - сказала она, обращаясь к О. - Я зашла, чтобы попросить у вас мои последние снимки, но, кажется, сделала это не совсем вовремя. Пожалуй, я зайду как-нибудь в другой раз.
- Умоляю вас, мадемуазель, - воскликнул, по-прежнему не выпуская О. из объятий, Рене, - останьтесь! Не уходите!
О. познакомила их (электрик сделал вид, что занят работой; рыжеволосый, непонятно на что обидевшийся, с гордо поднятой головой вернулся в свою гримерную). Жаклин была сейчас в лыжном костюме, похожим на те, что носят известные кинодивы, и которые весьма отличаются от простой спортивной одежды. Под черным свитером дерзко торчали ее маленькие упругие груди; узкие штаны туго обтягивали длинные стройные ноги. Белокурая королева снегов в голубой, из тюленьей кожи, куртке; от нее будто веяло снегом. Помада сделала ее губы красными, почти пурпурными. Жаклин подняла глаза, и О. встретила ее взгляд. Она не представляла, кто бы мог устоять от соблазна окунуться в этот зеленый бездонный омут, открывающийся взмахом светлых, словно покрытых инеем, ресниц, и прикоснуться, приподняв черный свитер, к маленьким теплым персям. "Это ж надо, - подумала О., - стоило только вернуться Рене как у меня снова появился интерес к жизни, к другим людям, к самой себе."
Из агентства они вышли втроем. На рю Рауль шел снег. Еще совсем недавно падавший большими мокрыми хлопьями, сейчас он поредел и, гонимый ветром, мелкими белыми мушками проникал в рот, уши, глаза. Под ногами скрипела рассыпанная по тротуару соль, и О. голыми бедрами чувствовала идущий от земли холод.
***
Преследуя молоденьких девушек и женщин, О. хорошо представляла себе, что ей от них нужно. И это никоим образом не объяснялось желанием соперничать с мужчинами или компенсировать этим своим поведением набившую уже всем оскомину "женскую неполноценность". Уж чего-чего, а этого она в себе не ощущала. Когда ей было двадцать, она неожиданно для самой себя стала вдруг ухаживать за самой красивой из своих подружек - здороваясь с ней, она снимала берет, уступала ей дорогу и подавала руку, помогая выйти из машины. Она платила за нее в кафе, где они пили кофе, и не принимала при этом никаких возражений. Она целовала ей руку и часто, прямо на улице, целовала ее в губы. Но это было так, позой, и делала она это скорее из какой-то детской жажды скандала, нежели из вызванной желанием необходимости. Она обожала сладость мягких женских губ с привкусом помады, блеск полуприкрытых негой глаз в темном полумраке комнаты, когда уже пять часов дня и на окнах задернуты тяжелые плотные шторы, когда уютно светит стоящая на камине лампа и шепчут с придыханием голоса: "Ах, пожалуйста, еще, еще, еще..." и пальцы потом долго и терпко пахнут. Все это по-настоящему захватывало и увлекало ее. Ей нравился сам процесс охоты. ОНА соблазняла девушек, и ей принадлежала инициатива в отношениях с ними. О., например, совершенно не терпела, когда ее целовали первой, или когда девушка, которую она ласкала, начинала отвечать ей тем же. И в той же мере, как она стремилась поскорее раздеть свою очередную жертву, она не видела никакой необходимости раздеваться при этом самой. Чтобы хоть как-то объяснить свой отказ, она придумывала всевозможные причины - например, что ей холодно, или что у нее месячные.
Удивительно, что тогда все молодые женщины казались ей в той или иной степени привлекательными. О. до сих пор помнила, как однажды, сразу после окончания лицея, какое-то время пыталась соблазнить одну девушку, толстую, маленькую, с неприятной внешностью и вечно тоскливым выражением лица, но была быстро и бесповоротно отвергнута ею. О. всегда охватывало трепетное волнение, когда она замечала, что от ее ласк лицо избранницы озаряется каким-то внутренним светом, радостью и припухают губы и в широко распахнутых навстречу О. глазах появляется завораживающий блеск. И искреннего восхищения в этом было куда больше, чем просто утоленного (хотя и ненадолго) честолюбия.
В Руаси она испытывала нечто подобное, когда замечала, как от умелой мужской ласки столь же божественно преображается лицо какой-либо из живущих в замке девушек. Красота обнаженного женского тела всегда потрясала О. И она была более чем благодарна своим подружкам, когда они соглашались раздеваться перед ней, и предлагали ей полюбоваться своей наготой. Обнаженные же на пляже оставляли ее абсолютно равнодушной. При этом красота других женщин, которую О. с характерной для нее щедростью ставила выше собственной, придавала ей уверенность и в своей красоте - она, словно в зеркало, всматривалась в этих женщин и видела в них себя. Власть, которую они имели над нею, была, в то же время, гарантией ее власти над мужчинами. И ей казалось совершенно естественным то, что мужчины с такой настойчивостью добиваются от нее того же, чего она сама хотела от женщин. Она словно давала нескончаемый сеанс одновременной игры в шахматы на двух досках. Иногда партии оказывались нелегкими.
Сейчас О. была влюблена (если это слово вообще подходит для определения ее состояния) в Жаклин и, поскольку подобное случалось с ней довольно часто, никак не могла взять в толк, почему же она медлит, почему скрывает это от девушки?
***
Но вот пришла весна. Потеплело. На тополях набухли и распустились почки. Дни стали длиннее, а ночи короче, и на скамейках в больших парках и крошечных сквериках начали появляться парочки влюбленных. О. решила открыться Жаклин. Зимой в своих богатых шубах девушка казалась слишком величественной и неприступной; весной же, когда зимний гардероб сменился на свитера и костюмы, - совсем иное дело. Она, теперь со своей короткой прямой стрижкой, стала похожа на одну из тех бывших лицеисток, которых шестнадцатилетняя О., сама еще лицеистка, хватала за руки и молча тащила по коридору в пустынный гардероб. Там она их толкала на вешалки, падали пальто, и О. смеялась, как ненормальная. Все лицеистки обязаны были носить форменные блузки, некоторые из них красными нитками вышивали на груди свои инициалы. Жаклин оказалась младше О. на три года и тоже носила нечто подобное, только в другом лицее, находившемся всего в трех километрах от того, в котором училась О. Узнала об этом О. совершенно случайно. В тот день Жаклин позировала для рекламы домашних халатов, и вот, в конце сеанса, вздохнув, она неожиданно для О. сказала: