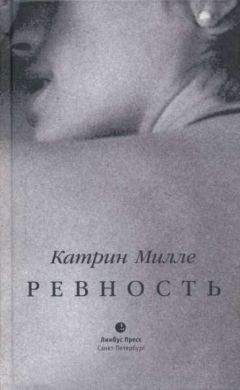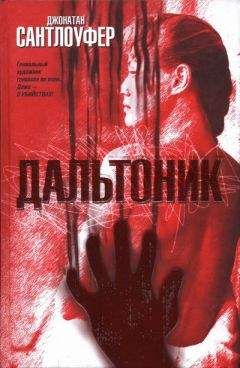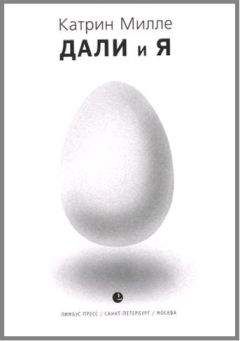Как-то рано утром я нахожусь одна в студии Жака, который, должно быть, ушел на работу. Я сижу за столом, яркий свет, льющийся из стеклянной двери, озаряет стол и меня с ног до головы, я пишу ему письмо, пребывая в состоянии бешеной ревности. Сегодня я уже забыла, откуда мне стало известно, что к Жаку в студию регулярно приходит другая женщина. Но я до сих пор помню, как я поступила, чтобы отвоевать отнятое пространство и водворить там свой образ женщины-победительницы. Незадолго до этого Жак обжег себе руки и несколько недель не мог ничего делать из-за повязок. Поэтому мы приспособились трахаться, когда он лежал на спине, а я двигалась на нем вверх-вниз. Мне нравилась эта поза, а также ощущения, когда шершавые бинты касались моих бедер. Письмо, в котором я сравнивала себя с Эйфелевой башней, раскорячившейся над его телом, закрепляло мои права на эту позицию. Самосознание может проявить в этот момент двойственность, когда, не обманываясь относительно некоторых черт характера или поведения, которые мы достаточно упорно демонстрируем, мы все же остаемся слепы по отношению к чувствам, которые пытаемся таким образом подавить. Я думаю, что довольно рано обрела проницательность, отдавая себе отчет в том, что если я придаю такое первостепенное значение сексуальной стороне жизни, то только потому, что пристрастилась к ней, как к болеутоляющим, — они не только снимают боль, но вызывают состояние эйфории; однако я не смогла бы локализовать источник боли. Раздвоение происходит автоматически и тщательно отработано, поскольку я привыкла разыгрывать перед собой небольшие спектакли: пока я писала письмо, я сама возбуждалась от своих совокупительных фраз и одновременно воспринимала себя как символ сексуальной революции. Я даже принялась философствовать; в почти непрерывном диалоге с фантомом, воплощающим часть моей личности и беспрестанно что-то от меня требующим, я объясняю, что другие жизненные ценности не имеют большого значения, если в этом ты готов следовать до конца за своими фантазмами. Взгляд, направленный на самое себя, обязательно предполагает отстранение. Впрочем, в такой момент отстранение не является отстранением критического сознания, которое, отступая назад, обращается против какой-то части самого себя, судит ее или, по крайней мере, иронизирует на ее счет; наоборот, это сознание проективное, отделяющее от себя нечто вроде клона, которого оно стремилось создать. Понятно ли будет, если я скажу, что принимала участие в изготовлении этого клона, то есть участвовала в процессе, противоположном его уничтожению, и даже если этот процесс носит несколько искусственный характер, я, тем не менее, не могла попасть под обаяние данного артефакта? Потребовалось, чтобы часть, отторгнутая от моего сознания, отождествилась с личностью победителя, с какой-нибудь Жанной д’Арк, движущейся к шпилю Реймсского собора, где вознесется (а почему бы и нет) наподобие Эйфелевой башни, поскольку другая часть, та, которую я не могла подробно рассмотреть и, более того, с которой смогла поговорить лишь много позже (ибо внутренний взгляд, как и обычный, фиксирует увиденное гораздо раньше, чем мы можем его сформулировать), натыкалась на мебель в крошечной квартире, где сочинялось это письмо и выстраивалось данное умозаключение. Внезапно потребовалось отвести место для троих, и даже больше: нужно было впустить сюда еще и незнакомца, того, кто прежде казался мне воплощением искренности, — Жака. Отвечая на мое письмо, он не стал прибегать к метафорам. Он спросил меня, не случалось ли мне задуматься над тем, как он справлялся с тысячей мелких бытовых дел, пока у него бездействовали руки, ведь я никогда не проводила у него больше нескольких часов.
После того как я разошлась с Клодом, я несколько недель жила у подруги в уютной мансарде — превосходная декорация к фильму Трюффо о двух эмансипированных героинях, регулярно получая все более настойчивые послания от Жака. Они приходили по одному или по два в день, иногда по почте, иногда их просто бросали в мой почтовый ящик. И хотя в силу профессии мне приходит много писем, я всегда открываю корреспонденцию — даже сегодня — с плохо скрытым нетерпением, с каким получаю самые что ни на есть скромные подарки, потому что это сюрприз, потому что слегка по-детски я допускаю, что незнакомые предметы или послания способны содержать в себе столько неожиданного, что абсолютно невозможно угадать это заранее, исходя из собственных упований или чаяний. Подарок может какое-то время сохранять скрытые в нем волшебные возможности, и я никогда сразу не отказываюсь от желания воспользоваться этой бесполезной безделушкой, как и от надежды принять присланное приглашение, хотя знаю, что у меня уже довольно плотное расписание, но все равно, пусть оба они будут возможностью слегка ускорить ритм моей жизни; и напротив, когда я читала письма Жака — его мгновенную и странную реакцию, выраженную письменно, на телефонный звонок или на наш вчерашний разговор за обедом, — мой ум, увы, тут же затуманивался.
Я их читала, не отрываясь. Я их совсем не перечитывала или перечитывала очень редко. И все же я сохранила их все до одного. Я читала их в смятении. Мой взгляд метался по странице, я барахталась среди слов, ставших непроницаемыми. Я бы вела себя так же, если бы на меня неожиданно напали в темноте, а я наугад, на ощупь, пытаясь ухватить руку, рукав, край одежды нападавшего, в результате осталась бы ни с чем. В тот период я надеялась, что отныне смогу наслаждаться еще большей свободой перемещения в моем сексуальном кочевничестве, не сомневаясь, что в результате буду проводить гораздо больше времени с Жаком. Он же, скорее, наблюдал, как я становлюсь стрелочником, готовящимся управлять разветвленной железнодорожной сетью, и объявил мне, что не согласен на сцепки. Его, например, злило мое предложение — вместе с одним из моих приятелей-художников арендовать большой чердак: он мог бы устроить свою мастерскую на одной половине, а мы с Жаком жили бы на другой. Жак называл извращением наивные рассуждения той, в чьем сознании фантазмы соседствовали с реальностью.
Я не отождествляла любовь с сексуальным удовольствием; я также не считала, что удовольствие — это что-то единое и неделимое. Поскольку я всегда имела несколько связей одновременно, мне никогда не приходило в голову измерять интенсивность удовольствия в общении с каждым из друзей, и если кто-то из них не любил делать то, что нравилось мне, я ни за что не стала бы от него этого требовать. Я прекрасно понимала, что удовольствие, которое испытываешь с одним мужчиной, не обязательно повторится с другим, который, как раз наоборот, может открыть для тебя нечто неизведанное. Я, например, совершенно уверена: тот, кто мог предложить более широкий, более богатый опыт, в действительности тормозил развитие моей чувственности. С этой точки зрения, у меня ушло больше времени на то, чтобы познать самое себя. Неизбежным следствием «перелистывания страниц своей жизни», как я это называла, была огранка моего либидо. В течение долгого времени из любезности, из желания понравиться, из любопытства и по другим причинам, которые не ограничивались погоней за удовольствием, я охотно откликалась на желания своих партнеров и наугад и наудачу удовлетворяла собственное. Переходя от тела к телу, из одной эротической вселенной в другую, я по-разному формировала свою сексуальную индивидуальность и развивала собственные реакции. Когда вкусы моего партнера в выборе позы, приема, специфической игры находили во мне отклик, я старалась довести все до апогея — но могла тут же это забыть при общении с другим. Такова способность, присущая многим женщинам, которые компенсируют свое природное отсутствие инициативы огромными, почти неограниченными возможностями собственного тела. Разница заключается в том, что я чаще, чем другие, меняла партнеров. И напротив, наподобие некоторых эротоманов, у которых подход к получению удовольствия оставляет примерно столько же места для импровизации, как монастырские правила, я, столь постоянная в совместной жизни, в дружбе, в работе, в интеллектуальных привязанностях, была весьма непостоянна в сексе.
Я не смогла бы точно определить момент, когда можно было бы с уверенностью утверждать, что мое тело отделилось от моего существа. Самое глубокое осознание этого произошло во время написания и публикации «Сексуальной жизни Катрин М.». Успех книги еще больше подчеркнул этот феномен. Любой писательский труд уничтожает объективность. А в данном случае предполагалось осветить максимальное количество эротических ситуаций и ощущений, через которые прошло мое тело. Книга вызвала бесчисленные отклики. Таким образом, тело Катрин М., описанное и прокомментированное, перестало принадлежать мне одной. Но еще до того, как я приступила к проекту книги и для этого стала выуживать в памяти сцены, которые там описаны, потребовалось, чтобы мой взгляд изнутри превратился в как бы взгляд извне. Как правило, этот предполагаемый взгляд извне является опосредованным; он проходит через восприятие другого человека, независимо от того, присутствует тот или нет. Психологическая цепь очень короткая, обычно неосознанная, но если я «смотрю» на саму себя, лежащую голой здесь, в этой комнате, я наверняка представляю себе то, что видит тот, кто смотрит на меня, или то, что он увидел бы, будь он рядом. В этом случае разве мысленно представленный мною образ моего тела и поза, которую я, возможно, пытаюсь придать ему в соответствии с этим образом, — не являются ли они в значительной степени отражением того, что создано воображением другого? Когда человека обвиняют в нарциссизме, чаще всего подтрунивают над его уверенностью, будто он наделен столь прекрасным телом, что его долг — лишь сохранять это тело в наилучшем виде и подчеркивать его красоту, не более того. Это примитивная мысль. Одинокий Нарцисс, устремляющий взгляд на собственное отражение, существует лишь в легенде. Самый распространенный вид нарциссизма, как мне кажется, опровергает мой, более скромный нарциссизм и охотно подчиняется законам реальности… По образцу большинства моих собратьев по эгоизму я знаю, что моя привлекательность — понятие непостоянное, и оценка моей внешности во многом зависит от точки зрения, с которой эта внешность рассматривается. Впрочем, точку зрения или точки зрения определяем не мы.