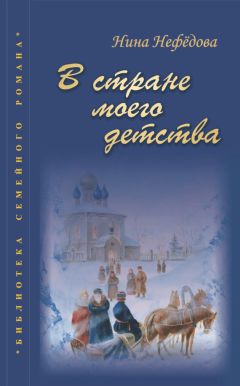Мой муж, Иван Николаевич, шутя утверждает, что если взять циркуль и укрепить его на чуть вздёрнутом носике Тани, то можно провести правильную окружность. Подсмеивается он, конечно, любя. Я давно заметила, что отец питает особую нежность к Тане, выделяет её среди остальных детей.
Из кухни слышно, как Оля открывает кому-то дверь. Это пришла Лида. Очевидно, она в хорошем настроении. По всей квартире разносится её сильный, звучный голос:
«Я вся горю-ю… не пойму, отчего?»
Таня, прислушиваясь к пению сестры, болезненно морщится, точно ей попал на зубы песок.
Любимый романс самой Тани – «Средь шумного бала». Она поёт его иногда думая, что её никто не слышит, но поёт робко, точно стесняясь своего небольшого голоса.
В последнее время обнаружился голос и у Оли. Она тоже почему-то стесняется петь, особенно при отце. И только я, когда мы остаёмся вдвоём, имею возможность насладиться её пением. Оля чаще поёт песни со ветских композиторов, и мне особенно нравится одна из них:
«Сегодня девчонка сказа-а-ла-а,
Сказала впервые люблю-ю…»
За последний год Оля как-то неожиданно вытянулась, выровнялась. Мне нравится смотреть, как она причёсывается. Золотистые волосы окутывают Олю до пояса, она заплетает их в две толстые косы. Но сама Оля не любит, чтобы её заставали за этим делом и нетерпеливо встряхивает головой, отклоняя мои попытки помочь ей.
Мне говорят, что пройдёт ещё год-два, и Оля будет похожа на тургеневскую девушку. Что ж, это не так плохо. Для меня тургеневская девушка – олицетворение чистоты, женственности и скромности. Всегда неприятно видеть девочек, которые, желая привлечь к себе внимание, держатся развязно: громко кричат, хохочут. Но когда я смотрю на Олю, я думаю, что, пожалуй, она чересчур сдержанна, молчалива. Может быть, это объясняется тем, что Оля много читает. Она вся во власти прочитанного. Её редко увидишь без книги.
Вот и сейчас в ожидании обеда Оля с ногами забралась на диван и целиком погрузилась в томик Лескова.
– Шла бы ты, Оля, лучше погуляла! – говорю я, войдя я столовую.
– Да, мама, – отвечает Оля не отрываясь от книги.
Юра, который сидит тут же в комнате, разбирая на письменном столе приёмник, с усилием отвинчивает какой-то шуруп и говорит глухо, не оборачиваясь:
– Наша Лелька когда-нибудь ослепнет, мама… Придётся ей очки носить!
– Да? – иронически-удивлённо отзывается Оля и продолжает читать.
В три часа, как обычно, приходит из университета Иван Николаевич. Он декан биолого-почвенного факультета, заведует кафедрой, читает лекции, занимается научной работой, много печатается. Каждое лето он влезает в свои кирзовые сапоги, надевает старенькую штурмовку и с рюкзаком за плечами отправляется в экспедицию. Уже несколько лет мне не удаётся вытащить его на курорт.
Вот и нынче он собирается поехать со студентами на трассу гослесополосы Сталинград – Степной – Черкесск, чтобы заняться вредителями лесонасаждений. Ведь сейчас вся страна живёт наступлением на засуху. Об этом говорят дома, на работе, в трамвае. Об этом напоминают заголовки газет, радио.
«Посадить и посеять лес в сжатые сроки!» – несётся из всех репродукторов.
Как коммунист и как учёный, Иван Николаевич, конечно, не может стоять в стороне от большого всенародного дела. Он и в детях старается поддерживать интерес к нему. У нас в доме первым долгом читаются в газетах очередные сводки работ по степному лесонасаждению: сколько собрано семян, сколько гектаров леса посеяно, сколько предстоит заложить, как идёт выполнение плана.
Прошлой осенью, которая стояла на удивление сухая и тёплая, Иван Николаевич несколько раз вывозил ребят за Волгу для сбора семян. Ведь в школе дети соревнуются, кто соберёт семян больше. И наши мальчики не на последнем месте.
Иван Николаевич сегодня заметно устал и чем-то расстроен. Когда мы все садимся за стол – все, кроме Вали, он, нахмурясь, спрашивает:
– А молодец где?
Меня немножко задевает это «молодец», я предпочла бы, чтобы вопрос был задан так: «А Валя где?» Но Иван Николаевич верен себе. Когда он недоволен кем-нибудь из детей, то говорит: «Наша-то девица до чего додумалась!» – если речь идёт о дочери; если же провинится сын, соответственно следует: «Молодец-то что натворил!»
И это означало высшую степень негодования, осуждения.
Не получив ответа от меня, Иван Николаевич выжидающе смотрит на Юру.
– Не знаю, папа, – говорит тот, пожав плечами. Лицо Юры успело обгореть, нос лупится, загорели и уши, которые кажутся большими оттого, что Юра неудачно подстрижен.
Иван Николаевич ещё более хмурится. Я знаю, что его беспокоит. Он встревожен тем, что экзамены «на носу», а мальчишки не очень-то рьяно занимаются.
Юра, чувствуя, что недовольство отца относится и к нему, старательно вычерпывает из тарелки остатки супа.
Лида, не обратив внимания на то, что брови отца нахмурены, с беспечным видом рассказывает какую-то забавную историю, случившуюся у них на курсе. Когда взрыв весёлого смеха утихает, Иван Николаевич сухо спрашивает Лиду:
– Ты почему не посещаешь лекций по анатомии? Оживление мигом слетает с лица Лиды. Опустив голову, она отвечает тихо:
– Мне не нравится, как Антипин читает лекции…
– Да, но это ещё не резон, чтобы пропускать занятия… Губы Лиды дрожат. Она ещё ниже опускает голову.
И вдруг вскакивает из-за стола и с пылающими щеками выбегает из столовой.
Обед заканчивается в молчании. Иван Николаевич продолжает хмуриться, видно, что ему и самому неприятна эта история с Лидой, но пойти, поговорить с девочкой, ему и в голову не приходит. Не просить же прощения у девчонки за справедливое замечание!
Но тут появляюсь я в своей всегдашней роли парламентёра. Все вздыхают с облегчением, провожая меня взглядом, когда я иду в детскую – так у нас в доме называется комната девочек.
Лида лежит на кровати, уткнувшись в подушку, и вся вздрагивает от рыданий. Больших трудов стоит мне повернуть её лицом к себе.
– Ну что ты, Лида, милая… Успокойся!
Лида нетерпеливо дёргает плечом, пытаясь сбросить мою руку, мотает головой и вдруг, подняв ко мне залитое слезами лицо, в исступлении выкрикивает:
– Не буду я учиться! Не хочу! Проклятая анатомия! Она снова падает лицом в подушку, и до меня уже глухо доносится:
– Не буду! Не хочу! Ненавижу!..
Я сижу, как пришибленная. Так вот оно что! А мне-то казалось, что Лида смирилась с тем, что учится на биологическом факультете, хотя ещё в школе мечтала о литературном. Но отец и слышать не хотел о литературе. «Надо делом заниматься!» – говорил он. Для него, страстно увлечённого естественными науками, только они и были «делом».
«Конечно, я пойду туда, куда хочет папа!» – сказала мне Лида, когда я спросила её, твёрдо ли она решила стать биологом, и заплакала.
Но где была я? Почему я не отстояла девочку, зная, что литература – её страсть? Сочинения Лиды были лучшими в школе, а ответ на выпускном экзамене – блестящим. Она говорила, что по литературе ей было бы больно получить отметку ниже «пятёрки».
Почему я не вмешалась? Почему не сказала «нет!», когда по настоянию отца Лида выбрала биофак? Вероятно, потому, что мне казалось, что любовь к чтению ещё не основание для выбора профессии. Любить художественную литературу можно, будучи и физиком, и химиком, и биологом, и что Лида ничего не потеряет, если пойдёт на биологический факультет. Как, оказывается, я заблуждалась!
Вздохнув и поцеловав Лиду, которая больше не плачет, а только изредка всхлипывает, я иду к Ивану Николаевичу. Он сидит в кабинете над микроскопом и определяет своих короедов, которые наносят «неисчислимый вред лесному хозяйству».
– Ты слишком строг с Лидой! – говорю я мужу. Мои слова задевают его. Он поднимает голову от микроскопа и произносит в запальчивости: