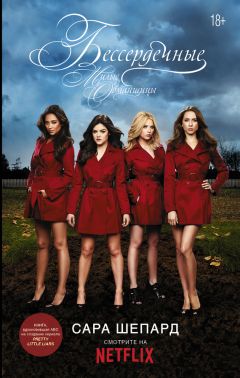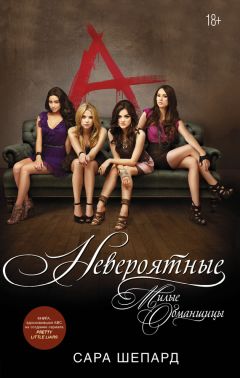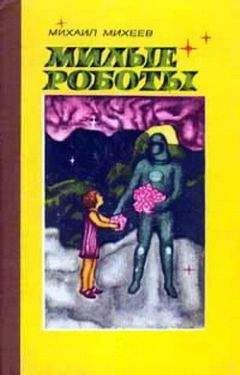И Василий, протянув ошарашенному Петру секиру, опустился на колени и положил свою голову на полированный стол. — Руби!
— А почему твою? — робко спросил ошарашенный Петька.
— А чью? — поднял голову Василий. — Если Валентина тебе на меня уже нажаловалась, то мне больше сказать нечего.
До Петьки вдруг дошло:
— Валя?.. Так ты… что? А ну встать, сука!
Василий встал.
— Так ты, что, сукач, всё-таки приставал к ней? За моей спиной? — кричал Петька. — Что ты сделал, говори, что?!
— Приставал — это сильно сказано, Петя, — повинился Василий. — Ну, было дело, попытался я погладить её вот этой, правой, ладонью… Так сказать, проверка, на всякий случай… Она меня так шуганула, что я летел через весь предбанник, пока не стукнулся головой о косяк, который ты не потрудился застрогать, как следует… Очковтиратель.
— Ещё раз так поступишь — убью, — пообещал Петька, кладя секиру на стол.
— Никогда, обещаю, — Василий потёр ушибленную голову. — У тебя, надеюсь, всё?
Петька устало повернулся уходить:
— Всё… — Но вдруг встрепенулся: — Ах, да! Чуть не забыл. Я ведь чего приходил-то…
Как-то виновато зыркнул глазами, протянул недоумевающему Василию секиру, стал на колени и положил свою голову на полированный стол:
— Руби, Вася…
— За что? — спросил ошарашенный Василий.
— Не скажу… руби.
— Так ты, сука, сам что-то натворил? — прищурился Василий. — Говори!
— Не скажу. Руби.
— Рядовой Ситников, встать! — вдруг рявкнул Василий командирским голосом.
Вот на это в Петьке моментально сработал скрытый армейский инстинкт. Он вскочил и замер по стойке «смирно».
— Доложить! — приказал бывший старший сержант Василий. — Что такого натворил рядовой Ситников?
— Товарищ старший сержант… Рядовой Ситников переспал с супругой старшего сержанта.
— Какого старшего сержанта? — удивился Василий.
— Старшего сержанта… Штопорова.
— Так ты что, спал с моей Любой? Ах, ты, сука!
Василий отбросил в сторону секиру, схватил Петьку за грудки, стал трясти и толкать Петьку к двери. Петька сопротивлялся:
— Я не виноват! Товарищ старший сержант, подождите, я сейчас объясню. Я не виноват!
Но Василий не слушал и яростно рычал, приговаривая:
— За моей спиной, а? А у меня ты спросил, а? Так ты кого из меня сделал, а? Обманутого мужа, а? Рогоносца, а?
Оба, напрягаясь в схватке, борясь и кряхтя, оказались у двери. Она неожиданно открылась — это со словами «Сегодня, главное, утвердить ассортимент…» в кабинет снова попытался войти толстенький мужчина. Но продолжить не успел — все трое вывалились из двери в вестибюль, рухнули там на пол, через несколько секунд, барахтаясь, оказались на краю лестницы, ведущей на первый этаж.
— Рогатым меня сделал, да?! — вскрикивал Василий.
И вот уже это странное трёхголовое «неизвестное науке существо» рыча, охая и ахая покатилось вниз.
Первой поднялась растрёпанная голова толстенького мужчины:
— За ассортимент я спокоен. Третья модель пойдёт под названием «Обруби мне рожки».
И рухнул без чувств.
Но позже растрёпанные Василий и Пётр уже мирно сидели вместе в кабинете, и Васька наливал Петьке в стакан из зелёной бутылки:
— Спиртного не держу. Только минералка.
Петька жадно, судорожно выпил.
— Так, говоришь, сама позвала передвинуть шифоньер?
— Ну да.
— Но у нас нет шифоньера. У нас стенка.
— Ну, она так сказала…
— Так это ж совсем другой разворот, — сказал Василий, сделав в воздухе рукой замысловатую фигуру. Снисходительно улыбнулся Петру. Ласково потрепал его по щеке. — Тютя, до того, чтобы соблазнить мою Любу, тебе ещё очень долго расти. И, скорее всего, не вырасти. Не ты её соблазнил, а она тебя. Кумекаешь?
— А в чём теперь разница?
— А в том, что она это сделала назло мне. Только лишь. Назло — и ничего более!
— Да, наверное, — робко согласился Петька, — она… когда мы уже… ну… это… она вдруг заплакала… Но ты же, понимаешь, я уже не мог остановиться… Прости, Василий.
Василий опустил голову, задумался:
— Заплакала… Значит, ещё любит меня… Почему же я не ценю? Почему так играюсь?.. Что же я за создание такое? Не человек, а… ч… ч… членистоногое.
— Членисторогое, — робко поправил Петька.
Василий поднял голову, беззлобно, устало замахнулся на него кулаком и… обнял:
— Может, мне пойти напиться, а, Петя, молочный братец мой?
— Ни в коем случае! — взволнованно воскликнул Петька. И осторожно добавил: — Помириться тебе надо с ней. Во что бы то ни стало.
Но Василий отрицательно покачал головой:
— Боюсь, что уже ничего не получится…
На железнодорожной станции Люба всё-таки не смогла сказать то, что хотела. Когда они с Валей обнялись на прощание, она вытащила из карманчика в кофточке сложенный листочек бумаги:
— Так и знала, что не смогу сказать вслух. Прочти, когда электричка отойдёт.
У Вали уже тревожно сжималось сердце — она чувствовала что-то недоброе. Оставшись на перроне одна, развернула листок. В нём было написано: «Прости меня. Назло Василию я соблазнила Петра. Петя не виноват».
…Валя не помнила, как бежала по тропинке через лесок назад. Только в одном месте остановилась, чтобы выломать в кусте длинную и толстую хворостину.
— «Петя не виноват!» — возмущённо вскрикнула Валя, передразнивая. Рубанула хворостиной по воздуху, как саблей — воздух аж засвистел.
Пете, считай, повезло — в это время его дома не было. У поселкового магазина Петя вёл своеобразную беседу с гармонистом Федей — пучеглазым, страшненьким, тем самым, который как-то в ряженом виде пел для Вали с Любой свои частушки. Этим своим искусством он был славен на весь посёлок.
— Давненько, Федька, — говорил Пётр, — я твоих частушек не слыхал. По-прежнему ли сочиняешь свои припевки или ты нынче в творческом застое? — и Пётр выразительно пощёлкал пальцем по своему кадыку.
Федя обнажил в улыбке свой щербатый рот с редкими жёлтыми зубами:
— Наша жизня, Петя, никак не позволяить расслабляться творческому человеку. Ты будешь в числе первых, кому я скоро спою на злобу дня. Начальные две рифмы уже в голове приземлились, остальные обязательно в скором времени опустятся. — Федька рукой изобразил, как что-то с неба опускается ему на макушку. — Тебе, Петя, будить особливо интересно послушать.
С хворостиной в руке Валя заскочила во двор, пробежала мимо сидевшей на крыльце Марии Семёновны. Громко распахивала двери во всех комнатах — Петьки не было. Валя бегом в баню — тоже пусто. За сарай в огород — никого нет. Возвратилась к крыльцу. Молча стояла, щурила от злости глаза, губы крепко сжимала, хворостина в руке ходуном ходила.
— Чего раскипятилась? — спокойно сказала Мария Семёновна. — Они все такие. Или почти все.
— Кто?
— Да мужики.
— Так ты что, знала? — поразилась Валя.
— Люба передо мною вчера повинилась. Да я и сама догадалась, ещё в тот день, когда Люба Петра к себе в дом потащила. Я в окно видала. И как потом он выскочил от неё. Я сразу всё поняла.
— Да ты у нас, оказывается, не только лучше всех слышишь, но и лучше всех видишь! — саркастически воскликнула Валентина.
— Вдаль, да, вижу, — согласилась Мария Семёновна.
— Так вот почему ты тогда на ключ заперлась! Перемолчать решила!
— Ты же и сама видела.
— Да мне и в голову не пришло! Подруга ведь! Самая близкая! А ты могла бы поделиться, если уж такая прозорливая.
— Я в вашу жизнь не вмешиваюсь.
— Вот и не довмешивалась.
— А ничего бы не изменилось.
— Как это ничего? Я бы сразу побежала туда, в дверь затарабанила бы!
— Оставь мужика в покое. Не всё от нас с тобой зависит. Да и…
— Что «да и»?
— Я тут поразмышляла… Такого, как Петя, это приключение вряд ли испортит. Даже полезно ему.
— Что ты говоришь! Полезно!
— Да. Для… этого… для самоутверждения.
— Да-а-а, умом вас не понять. Ты ж сама, сама, как только про их с Васькой шведский заговор узнала, сама первая переполошилась. Забыла?
— Шведский заговор — это был бы разврат.
— А через дорогу бегать — не разврат?
— Он никуда не бегал. Тут ничего наперёд не просчитывалось, баш на баш любовь не менялась. И Петя не виноват.
— Матерь божия! Вы тут все подельнички, я вижу. А если шибко понравится ему вот так «самоутверждаться»?
— Вот этого уже допускать нельзя. Но хворостина не метод.
— А что тогда метод?
— Полезь на чердак. Там под старыми досками ружьё лежит. Много лет уже.
— Откуда у нас ружьё? — насторожённо приложила руку к груди Валя.
— От твоего отца-стервеца осталось. Я не выбросила. Но боевых патронов не держу. Только холостые.