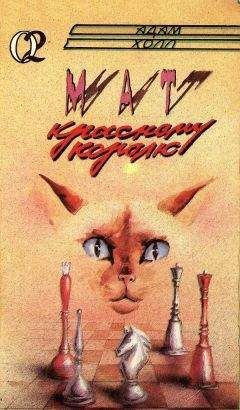Через Индийский океан пролегает к нам теперь новый путь — золотистый днем и серебристый по ночам. Смуглые короли и принцы выискали наш западный Бомбей, и почти все их пути ведут к Бродвею, где есть что посмотреть и чем восхищаться.
Если случай приведет вас к отелю, где временно находит себе приют один из этих высокопоставленных туристов, то я советую вам поискать среди республиканских прихвостней, осаждающих входные двери, Лукулла Полька. Вы, наверное, его там найдете. Вы его узнаете по его красному, живому лицу с веллингтонским носом, по его осторожным, но решительным манерам, по его деловому маклерскому виду и по его ярко-красному галстуку, галантно скрашивающему его потрепанный синий костюм, наподобие боевого знамени, все еще развевающегося над полем проигранного сражения. Он оказался мне очень полезным человеком; может быть, он пригодится и вам. Если вы будете его искать, то ищите его среди толпы бедуинов, осаждающих передовую цепь стражи и секретарей путешествующего государя — среди гениев арабских дней с дико горящими глазами, которые предъявляют непомерные и поразительные требования на денежные сундуки принца.
Первый раз я увидел мистера Полька, когда он спускался по ступенькам отеля, в котором имел пребывание его высочество Гайквар Бароды[1], самый просвещенный из всех индусских принцев, которые за последнее время пользовались гостеприимством нашей западной метрополии.
Лукулл быстро двигался, как бы приводимый в действие какой-то могущественной моральной силой, которая неминуемо грозила превратиться в физическую. За ним по пятам следовал сыщик отеля, которого можно было безошибочно узнать по его белой шляпе, ястребиному носу и нарочито утонченным манерам. Арьергард замыкали два ливрейных привратника, которые своим непринужденным видом отклоняли всякое подозрение, что они составляли резервный эскадрон вышибал.
Очутившись в безопасности на тротуаре, Лукулл Польк повернулся и погрозил веснушчатым кулаком в сторону караван-сарая. И, к моей радости, он начал выкрикивать непонятные для меня ругательства.
— Ездит в хаудах[2], не так ли? — громко и насмешливо закричал он. — Ездит на слонах в хаудах и называет себя принцем! Хороши принцы — ха-ха! Приезжают сюда и говорят про лошадей так, что вы можете принять их за президентов. А потом возвращаются домой и ездят верхом на слонах. Ладно, знаем мы их!
Вышибательный комитет спокойно ретировался. Поноситель принцев повернулся ко мне и щелкнул пальцами.
— Ну, как вам нравится такое обращение? — с возмущением крикнул он мне. — Гайквар Бароды ездит на слоне в хауде. А старый Бикрам-Шамшер-янг жарит по тропинкам Катманду[3] на мотоциклетке. Ну, не магараджество ли это? А шах персидский, у того, видите ли, привычка разъезжать в паланкинах. А тот, с такой забавной шапкой, принц из Кореи — вы подумали бы, что он может себе позволить прокатиться на белоснежном коне хоть раз во время своего царствования. Ничего подобного! Он находит самым приличным подоткнуть под себя юбки и ехать по Сеулу в телеге, запряженной быками, со скоростью одной мили в шесть дней. Вот какой сорт правителей приезжает к нам теперь в гости. Да, плохие времена теперь, дружище!
Я пробормотал несколько сочувственных слов. Свое сочувствие я мог выразить только общими фразами, потому что я не знал, чем его обидели правители, которые, подобно метеорам, время от времени появляются на нашем небосклоне.
— Последний раз мне удалось продать седло, — продолжал обиженный, — тому турецкому паше, который приехал сюда год тому назад. Он с легкостью заплатил мне за него пятьсот долларов. Я спросил его палача или секретаря — он походил не то на румына, не то на китайца — «его турецкое величество любит, значит, лошадей?» — Он? — сказал секретарь. — И не думает. У него в гареме толстая, жирная жена, которую зовут Бад-Дора и которую он не любит. Я думаю, он намеревается ее оседлать и ездить на ней каждый день взад и вперед по дорожкам Бульбульского леса. Нет ли у вас парочки особенно длинных шпор, которые вы могли бы приложить нам к покупке? — Так вот, сэр. В наше время среди королей очень мало отважных всадников.
Как только Лукулл Польк немного успокоился, я его подхватил и соблазнил его пойти со мною в прохладный уголок кафе. Для этого мне потребовалось не больше усилий, чем для того, чтобы убедить утопающего схватиться за соломинку.
И когда после долгого ожидания официанты поставили перед нами пиво, Лукулл Польк вдохновился и приступил к изложению причин, почему он осаждает приемные кабинеты иностранных владык.
— Слышали ли вы когда-нибудь о железнодорожной компании в Техасе? Ну, про нее нельзя сказать, что она благотворительное общество для оказания помощи актерам. Я одно время разъезжал по западным деревушкам с летней труппой актеров из того сорта, которые жуют слова, как табак. Конечно, наше предприятие лопнуло, когда субретка убежала с имевшим шумный успех бивильским[4] цирюльником. Я не знаю, что сталось с остальной труппой. Я их видел в последний раз, когда я им заявил, что в кассе нашего предприятия было сорок три цента. Правда, я их никогда после этого не видел, но я слышал их еще целых двадцать минут из леса, куда я бежал от их преследований. После наступления темноты я вышел из засады и обратился к агенту железнодорожной компании с просьбой переправить меня бесплатно в ближайший город. Он, от лица всей железнодорожной компании, рассыпался передо мною в любезностях, но посоветовал мне, однако, не садиться в вагон без билета.
Около десяти часов следующего утра я по шпалам дошел до станции Атаскоза-Сити. Я купил себе завтрак на тридцать центов и десятицентовую сигару и стоял на главной улице, побрякивая в кармане оставшимися тремя пенни. Я вконец обанкротился. Положение человека в Техасе, у которого в кармане только три цента, нисколько не лучше положения человека, у которого три цента долга.
Один из любимейших трюков судьбы — лишить человека последнего доллара так быстро, чтобы тот не имел даже возможности хорошенько посмотреть на него. И вот я стоял в шикарном костюме из Сан-Луи, в синюю и зеленую клетку, с восемнадцатикаратовым фальшивым брильянтом в булавке, а в перспективе — ничего.
Внезапно в то время, как я стоял на краю деревянного тротуара, с неба упала вниз на середину улицы пара чудных золотых часов. Одни часы попали в кучу грязи и завязли в ней. Другие упали на твердую землю, раскрылись, и из них посыпались пружины, колеса и винтики. Я взглянул наверх, ища аэроплана или тому подобное. Но я ничего не увидел, а потому сошел с тротуара, чтобы произвести расследование.
Но тут я услышал крики и увидел двух бегущих мужчин в кожаных куртках, в сапогах на высоких каблуках и в шляпах величиной с колесо телеги. Один из них был ростом в шесть или восемь футов, неуклюжий, и на лице его было выражение безысходной скуки. Он поднял часы, которые упали в грязь. Другой — маленького роста, с рыжими волосами и светлыми глазами — подошел к пустому футляру и заявил: «Я выиграл».
Тогда высокий человек засунул руку в кожаные голенища и подал своему другу горсть двадцатидолларовых золотых монет. Я не знаю, сколько там было денег, но мне показалось, что там было не меньше, чем в фонде для оказания помощи от землетрясения.
— Я наполню этот футляр механизмом, — сказал Коротыш, — и снова кину его на пари в пятьсот долларов.
— Идет, — сказал пессимист. — Мы встретимся с вами через час в кафе «Копченая Собака».
Маленький человечек поспешил, подпрыгивая, к ювелирному магазину. Меланхоличный же субъект оглянулся и внимательно, как в телескоп, посмотрел на меня.
— Здорово ловкая на вас экипировка, мистер, — сказал он. — Держу пари на лошадь, что вы не приобрели ее в Атаскоза-Сити.
— Конечно нет, — ответил я с полной готовностью познакомиться с этим денежным воплощением меланхолии. — Я заказал этот костюм в Сен-Луи у специалиста по части пиджаков, жилеток и невыразимых. Не будете ли вы добры просветить меня, — продолжал я, — относительно этого состязания в бросании часов? Я привык видеть, что с часами обращаются с большой вежливостью и уважением — конечно, за исключением дамских часов, которые служат для того, чтобы ими раскалывали грецкие орехи и показывали их на фотографиях.
— Я и Джордж, — объяснил он, — живем на ранчо, и с нами произошла забавная вещь. До последнего месяца мы владели четырьмя участками пастбища на Сен-Мигуэле. Но вот однажды к нам явился какой-то нефтепромышленник и стал бурить почву! Он попал на фонтан, который выбивает двадцать тысяч — а может быть, и двадцать миллионов — бочек нефти в сутки. И я и Джордж получили за землю сто пятьдесят тысяч долларов — по семьдесят пять тысяч на брата. И вот мы время от времени седлаем лошадей и приезжаем на несколько дней в Атаскоза-Сити, чтобы немного встряхнуть себя. Вот малая толика монет, которые я вынул сегодня утром из банка, — сказал он и показал пачку двадцаток и пятидесяток такой величины, как подушка в спальном вагоне. Желтые кредитки блестели, как солнечный закат на крыше рокфеллеровской риги. Я почувствовал слабость в ногах и уселся на краю дощатого тротуара.