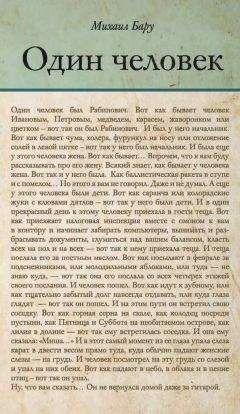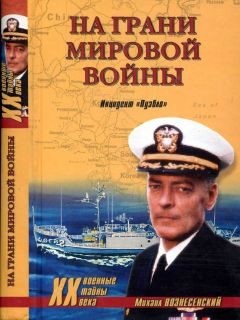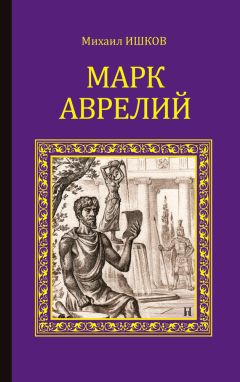Перейдём, однако, в следующий зал, посвящённый татаро-монгольскому нашествию. Здесь и берестяные грамоты с первыми нецензурными выражениями, принесёнными нам завоевателями, и диорама героической обороны города, похожая как две капли медовухи на оборону Козельска или Твери. В углу диорамы мизансцена — двое наших скребут вражеского лазутчика, переодетого русским, до тех пор, пока не обнаружится татарин. Как же так, воскликнете вы, — да в эти дремучие архангельские или вятские леса не токмо татары с монголами, но даже и евреи со скрипками никогда не забредали! Что ж из того? Наша история не есть камень, лежащий дураком у дороги, но полноводная река, которую мы то перегородим плотиной, отчего она затопит все дома в округе, то построим над ней мост и станем с него плевать на воду, то станем поворачивать её вспять, то решим переплыть, как три мудреца в одном тазу, и заплывём… к примеру, в архангельские леса. Да и вообще — вы бы ещё спросили, что делать и кто виноват. Не в нашей привычке — задавать вопросы, на которые, как всякому у нас известно, нет и не может быть ответов, а те, у кого они есть, пусть бы и предлагали нам свои ответы, но мы у них не возьмём, даже и даром. В нашей привычке — почесать в затылке, вздохнуть послать всех на и побрести дальше.
А дальше — нотариально заверенная копия указа Ивана Грозного о взимании с города налога на мобильную ямщицкую связь, батоги, которые государь и великий князь изволил обломать о спину местного воеводы, написанная на полях приказной книги окаянная дума думного дьяка, сосланного в эти края за мздоимство не по чину, кошель с серебром одного из сподвижников Стеньки Разина, подобранный им на большой дороге у проезжающего, и неподъёмные амбарные замки от неподъёмных купеческих дочерей.
От петровских времён остались нам пушки, отлитые в первый, но не в последний раз из церковных колоколов, кучки ядер, портреты генерал-фельдмаршалов с красными лицами, заржавевшие шпаги, похожие на муравейные кучи макеты железоделательных заводов и адмиралтейские якоря, которые можно найти даже в самой что ни на есть сухопутной российской глухомани. Петр Алексеевич, как известно, куда ни заезжал — так сразу, ещё и не обрив бород заспанным боярам, приказывал строить флот. И строили. Где фрегат, где галеру, а где обстоятельства не позволяли — там ботик. Хоть щепку под бумажным парусом, но по ручью пускали, а уж потом, потной от страха рукой, писали царю отчёт о лесах, порубленных на этот ботик, о сотканных вёрстах холста на паруса и просили, просили денег на новое кораблестроение. И вот ещё что — от того времени остались в наших музеях такие огромные кубки и даже рюмки для вина, в которых и большому кораблю было большое плаванье.
Как хотите, а мой любимый зал — это быт дворянских усадеб позапрошлого века. Тут тебе и ломберные столики под зелёным сукном, и портреты внушительных предводителей дворянства, тётушек с усиками, дядюшек с пышными бакенбардами, насупленных предков до седьмого колена, стулья из карельской берёзы с гордо выгнутыми спинками, преогромный дубовый письменный стол с хрустальным письменным прибором, в котором упокоится еще с тильзитским миром захлебнувшаяся чернилами муха. А вот миниатюрная перламутровая коробочка, на крышке которой едва заметен истёршийся цветок. В таких коробочках девицы хранили пилюли от меланхолии, романтической бессонницы и учащённого сердцебиения. Дамы же солидные и умудрённые житейски клали туда что-нибудь от несварения желудка. Рядом стоит надтреснутая гарднеровская чашка с субтильной пастушкой, которая на самом деле была ядрёной и краснощёкой Акулиной или Прасковьей, подававшей утром барину кофей в постель до полного изнеможения. В углу дивана лежит в кожаном переплёте французский философический роман, которым удобно давить мух перед тем как завалиться спать после обеда, стаканчика какой-нибудь вишнёвой наливки и двух выкуренных трубок…
Здесь бы реке времени и остановиться, но она несёт свои воды дальше, дальше — к прокламациям, матросским бескозыркам, комиссарским кожанкам и чекистским наганам, расстрельным спискам и революционным знамёнам. Что ж тут можно поделать… только и остаётся, что тихонько, не скрипя половицами и не разбудив вечно спящую музейную старушку, выйти на улицу и пойти пить пиво с такими же праздными мечтателями и бездельниками, как ты сам.
* * *
На закате, когда золу последних догоревших облаков выметет ветер, когда песни кузнечиков увязнут в густой сметане сумеречной тишины, когда полевые цветы сожмутся в беззащитные кулачки, заблудиться и доехать по еле видной в бурьяне колее до глухой и слепой, в чёрных окнах деревни, увидеть заброшенную церковь с переломанными рёбрами проваленного купола, над входом пустой оклад иконы с позеленевшим медным нимбом, вросшее в землю мраморное надгробие, на котором с превеликим трудом можно разобрать, что лета тысяча семьсот восемьдесят восьмого года, на… году жизни, преставился раб Божий… секунд-майор и… Петрович… переживший свою супругу Варвару… урождённую… на два года… месяцев и три дня… и вдруг понять — по ком звонит и звонит давным-давно сброшенный и расколотый колокол.
* * *
В Зарайск хорошо въезжать не по прямой, как стрела, шумной федеральной трассе, которая идёт из Москвы в Рязань, а по пустынной и извилистой местной дороге, через деревни Пронюхлово и Мендюкино. В последней, кстати, народ живёт культурный, поскольку ни одна буква на дорожном указателе «Мендюкино» не исправлена местными острословами.
В самом Зарайске заповедник Ненарушимой Тишины. Вот как есть Неупиваемая Чаша или Неопалимая Купина — точно так же и существует Ненарушимая Тишина. И вовсе не потому, что она там никем не нарушается, а потому, что сделать этого никак невозможно при всём желании. Коза ли заблеет, переходя с улицы Ленина на Красноармейскую, жена ли проводит мужа пить пиво крепким и увесистым, точно булыжник, словом, лягушка ли заквакает на берегу сонной речки Осётр, которая из последних сил протекает, протекает и никак не может протечь мимо города, — а тишина ещё глубже, ещё бездоннее.
В крошечной прихожей местного музея вечно обедающая старушка не торопясь прожуёт, цыкнет зубом, продаст тебе билет, проведёт в единственный зал, включит свет и предложит полюбоваться коллекцией портретов князей Голицыных, их чад и домочадцев. Голицыны висят на одной стене зала, а с противоположной стороны смотрят на них благообразные купцы разных гильдий и суровые купеческие жёны. Читатель с воображением тотчас представит себе этакую дуэль взглядов — надменные княжеские взоры против хитрых, с прищуром, купеческих и… будет кругом неправ. Что у тех, что у других в глазах одно недоумение пополам с тоской — как их черти занесли в этот медвежий угол? Туристу, особенно столичному, в таком зале долго и находиться опасно. Так и захочется схватить в охапку князей с купцами и вывезти на большую землю. Но что тут может поделать частное лицо, даже и с благородными намерениями, когда при входе висит страшная в своей облупленности табличка: «Охраняется государством»…
На центральной площади, возле торговых рядов, находится автобусная станция, с которой уходят автобусы в близлежащие деревни и даже за границу губернии, в Рязань. Кстати сказать, Зарайск не всегда был под властью Москвы. Любой старожил вам расскажет, что ещё до Смуты входил он в состав Рязанской губернии и назывался Заразском. А в одну из Смут — то ли при первом Лжедимитрии, то ли при Ельцине, Московская область его таки к себе присоединила. О том, как она это сделала, ходят разные слухи. Одни говорят, присоединение произошло вследствие решительной и умелой военной кампании генерал-губернатора Громова против рязанского коллеги, а другие утверждают, что никаких военных действий и в помине не было (да и кто позволит военные действия в мирное время), а просто проигран был Зарайск московскому областному начальнику в карты. Признаться, и вторые врут. Бессовестно врут. Громов никогда в руки и карт-то не брал, но в шашки или на бильярде не то что Рязань, а и саму Москву…
Что же до автобусов, с которых я начал, то до Рязани они, конечно, не доезжают. Покружат, покружат вокруг Зарайска и возвращаются обратно. Местные жители всё одно этого не замечают, поскольку всю дорогу спят сладким сном. Впрочем, не менее крепко они спят и до, и после этих путешествий.
Зарайский каменный Кремль, построенный ещё в шестнадцатом веке, тих и безмятежен. Почерневшие, в прорехах, деревянные шатры на его башнях сидят некоторым образом набекрень, а трещины в кирпичной кладке вокруг некогда грозных бойниц напоминают морщинки вокруг старых, добрых и смеющихся глаз. Посад за кремлёвской стеной, на первый взгляд, не изменился с тех самых времён, когда воеводой был здесь князь Пожарский. Видел я вышедшего на прогулку древнего старика с клюкой, который, кажется, состоял стрельцом или даже десятником на службе у князя. Подумалось мне, что хорошо бы стать воеводой в Зарайске. В мирное, конечно, время. Поутру, зевая и почёсываясь, выходить на красное крыльцо, устраивать смотр ратникам, тыкать им кулаком в толстые брюхи, выравнивая строй, пробовать на зуб свинцовые пули к пищалям, тенькать тетивами тугих луков, а потом, утомившись службой, сидеть с удочкой на берегу Осетра и ловить пудовых стерлядей на уху или заливное.