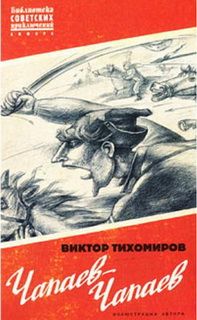Тогда Толстецкая молча забрала трусы, уложила в коробку и, окинув мужчину разочарованным взглядом, с почтением передала предмет женщине с родинкой.
Через неделю ту можно было видеть на окраине совершенно незнакомого города, в одной из немногочисленных церквей, где она в колеблющемся сумраке, украдкой подложила коробку на стол с предметами, назначенными к освящению. Успела она в самый раз, через минуту коробка была окроплена святой водой и окутана дымом из кадила, после чего, женщина, также украдкой выхватила предмет, благо он находился с краю и, немедленно из храма удалилась, забыв даже перекрестить лоб.
22
Снова пришла весна, а за ней и лето с жарой. Природа удивительно однообразна в своих проявлениях. Все те же почки набухают и выпускают листья, зеленеет кустарник на фоне голубого неба, и птицы не меняют мелодии своих напевов. У людей же, хоть они и неотделимая часть природы, все меняется: и облик, и поведение, и цели устремлений.
И вот Поликарп Шторм опять дергает медную ручку звонка своей образцовой квартиры, в надежде на торжественную и радостную встречу. Звон улетает в глубину коммунального жилья и там гаснет, отскочив несколько раз от развешанных по стенам оцинкованных корыт, неисправных велосипедов и запутавшись в криво повешенных электропроводах, находящихся в аварийном состоянии из-за дурной изоляции. Пожара еще не случилось по причинам, наукою категорически отрицаемым. Мужиков настоящих в доме, как нет, так и не было никогда. Женская же половина населения квартиры ветшает, делается вроде как несколько побитая градом, так что появление каких бы то ни было новых мужчин тоже не предвидится.
Словом, опять тишиной откликнулась квартира на призыв полярника. Убедившись, что звука шагов нету, Поликарп нехотя вынул собственный ключ и отомкнул дверь. У себя в комнате он стал посередине, против зеркала в старинной раме и принялся снимать с себя слоями, как с капустного кочана, одежду.
Оставшись в одних трусах, он открыл шкаф, достал оттуда купленные женой в спорттоварах плавки на пуговках, о приобретении которых та написала ему недавно в письме, затем надел их вместо трусов, чтоб пойти искупаться. Картина в зеркале открылась самая привлекательная, и стало быть следовало поспешить. Ведь буквально все уже были на озере. Там был сиюминутный центр вращения всей жизни, не хватало только его, Поликарпа. Может быть даже он успел бы за сегодня сколько-нибудь подзагореть, не без участия в процессе пронзительных женских взглядов. Но тут раздался звонок в дверь.
Летчик, накинул халат, вышел в коридор и смело открыл дверь звонящему. На пороге стоял почтальон в синей форменной фуражке. Он протягивал хозяину испещренную печатями и штампами городов бандероль и заодно популярный журнал.
Расписавшись в получении, Поликарп вернулся к себе и с любопытством растрепал упаковку бандероли. Волосы зашевелились на голове летчика. От изумления он оступился и уронил на пол содержимое.
Коробка бандероли содержала в себе исковерканные им год назад «семейные» трусы, представлявшие теперь собой неряшливый и затасканный ком материи, простроченный несвежими разноцветными нитками, имевшими продолжение в виде безобразной бороды.
Летчик созерцал слегка шевелящиеся в потоке света из окна нитки и пыльный сатин, так как будто это был таинственный фантом, который вот-вот преобразится во что-то более реальное, чтоб сообщить ему о чем-то важном. Но важными были все эти сургучные печати, и самый почтальон в форме, с цифрой «5» на бляхе, но никак не тряпка, которую он самолично истерзал год тому!..
С треском распахнулась дверь комнаты, и крик «Папа!» вывел его из оцепенения. Это родная его и горячо любимая дочь Рая летела по воздуху через всю комнату, чтобы повиснуть на богатырской летчицкой шее. Поликарп в момент забыл о трусах, пораженный внезапной взрослостью и красотой дочери.
— Погоди, дай гляну на тебя, — с трудом оторвал от груди собственное дитя полярник. — Ну что тут скажешь? Замуж надо срочнейшим образом отдавать, не то поздно будет!
— Что ты, пап, с ума спятил? — бросилась дочь к журналу «Химия и жизнь», пламенея при этом щеками и гневно сверкая глазами из-под густых бровей.
— Не спятил, а с верного курса свихнуться можешь, — терпеливо разъяснил отец, озирая дочерин стан, — станешь дурой, наподобие матери, а отцу — горе.
— Тут про меня пап, смотри-ка, — не слушая, протянула Рая отцу журнал, чтоб показать сноску на одной из страниц. Мелкими буковками там значилось: «…при участии ученицы десятого класса Раисы Шторм.»
— Вот это дело! — обрадовался благородный отец, — что и называется — моя кровь! Химия вещь неплохая. Мозг и тот, говорят, весь на химии устроен, даже у мужчин.., — принялся он рассуждать, размашисто жестикулируя, в то время как Рая уже подметала пол, одновременно прибирая отцовские вещи.
Загадочные трусы из прошлого, заодно с прочим мусором, вскоре исчезли из поля зрения полярника, как будто их не бывало. И когда они все же пришли летчику на ум, он усомнился — не пригрезилось ли ему все событие? Все же Поликарп в удобный момент украдкой стал на коленки и вопросительно заглянул под буфет. Ровный, ничем не нарушаемый, слой пыли был ему ответом.
Рая, прибравшись, поспешила в коридор звонить матери на работу о приезде папаши — порадовать и предупредить. Поликарп тем временем извлек из чемодана коробку с надписью «Юный химик», нарочно купленную дорогой в магазине «Пионер», чтобы поощрить послушную дочь, и не догадываясь, что такую коробку дарить надо было лет десять назад.
23
Бывает, идет себе человек улицей, не зная горя, да вдруг и поскользнется. Может при этом упасть на бок или зашибить затылок. Оглядывается этот гражданин вокруг и не узнает действительности, не может застать ничего знакомого или застает знакомое, но не совсем, или не во всей полноте. Тут он замечает, что времени проскочил совсем не тот отрезок, какой должен был проскочить, или оно забежало вперед, если не откатилось наоборот вспять. Бывает всякое, и события такого рода уже находили отражение в литературе, тем более в кино.
Упомянутая злосчастная киносъемка, со всеми событиями на площадке, отчетливо запечатлелась в потревоженном сознании вдовы Спиридоновой. Ведь она видела все и всех, но не вдруг сложила отдельные части происходившего в единое целое.
Но как только оно составилось, вдова пришла в трепет. Виденное сегодня заставило учащенно биться ее боевое сердце и дало мощный толчок вдовьим сообразительным способностям.
Душа Матрены всегда горела на подлецов и разбойников, и, если б не отказывали временами ноги, как давеча, она могла бы еще послужить с успехом на поприще борьбы с душегубами и, возможно, на переднем краю.
Матрена пробовала записаться в «дружинники» и не раз ходила на уличное дежурство, плотной шеренгой, с почти такими же, но помоложе, тетками. Они иногда пробовали задирать настоящих хулиганов, выставляя впереди себя локти в красных повязках с надписью «Дружина». Но те легко ускользали, отбежав шагов на пять и, делая с расстояния оскорбительные жесты, в издевку, предлагали пробежать наперегонки стометровочку.
Ноги, колени особенно, тормозили героические порывы Спиридоновой. Дружину пришлось оставить, но в милицейское отделение вдова иногда наведывалась, если долго никто оттуда не подходил к ней за накопившейся информацией. Там она подбирала собеседника из милицейских прямо у входа, у кого физиономия казалась посмышленней, или дежурному в двух словах сообщала, что к чему.
Это уже не первый был раз, когда Матрена, наблюдая злодейство, не имела сил чтобы вмешаться. В таких случаях гнев ее выходил наружу глазами, излучая неведомую силу и свет. Природа этого явления относилась к областям, не изученным и даже отрицаемым передовой наукой.
В этот день женщина осталась сидеть дома, чтобы послушать радиопостановку из жизни негров «Хижина дяди Тома». Она налила себе чаю и включила настенный репродуктор.
Неожиданно ход Матрениных мыслей повернул в новую сторону, ибо на глаза ей попалась висевшая почти в самом углу старая деревянная рамка, с дюжиной заключенных в нее пожелтевших от времени фотографий.
Старинные фотографии, это вам не портреты красками. По портретам, даже самым подробным, срисованным с неподвижно сидящей натуры, все же очень трудно потом, через много лет представить себе живого человека, так чтоб он хлопнул бы вдруг тебя по плечу или предложил, например, выпить. Нет того. Так и будет сидеть неподвижно, портрет портретом.
Изображенный на фотографии тоже шутить не станет, но может прямо шагнуть к вам и строго спросить о чем либо, потому что на старой фотографии человек всегда старше вас и строже. Даже если он фотографировался юношей, а вы достигли почтенного возраста. Носы и уши те же, не поменялись, но в глазах совсем что-то другое, отраженное совсем другой жизнью. О более поздних, появившихся в огромном множестве, цветных фотографиях речи не идет, поскольку в них совсем нет никакого смысла.