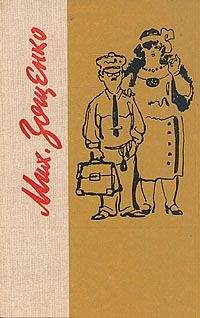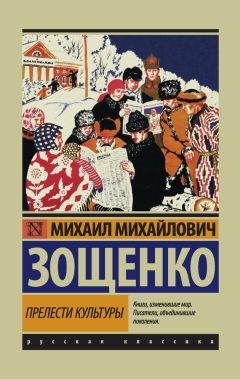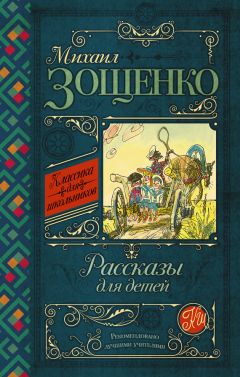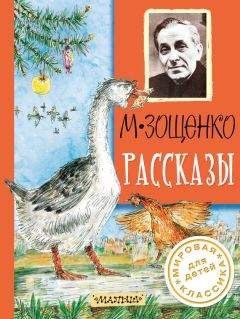— Да, конечно, никто.
Старичок подошел ко мне ближе. В своем волнении он окончательно потерял все мужицкое. Он даже стал говорить по-иному — не употребляя мужицких слов. Было ясно: передо мной стоял интеллигентный человек.
— Это меня-то никто не тронет? Меня? — сказал он почти шопотом. — Да меня, может, по всей России ищут.
Старик надменно посмотрел на меня.
Мне стало вдруг неловко перед ним. В самом деле: к чему я с ним заговорил об этом? Ему, видимо, нравилась его роль — тайного, опасного человека, которого разыскивает правительство. Сейчас этот тихий старичок казался почти безумным.
— Меня? — шипел старик. — Меня… (тут он назвал совершенно мне неизвестную фамилию).
— Простите, — пробормотал я, — я не хотел вас обидеть… И, конечно, если вас разыскивают…
Я поднялся с лавки, попрощался и хотел уйти.
— Позвольте! — сказал мне старик. — Что про меня в газетах пишут?
— В газетах? Ничего.
— Не может быть, — закричал старичок. — Вы, должно быть, газет не читаете.
— Ах да, позвольте, — сказал я, — что-то такое писали…
Старичок взглянул на меня, потом на хозяйку, на моего извозчика и, довольный, рассмеялся.
— Воображаю, — протянул он, — какую галиматью пишут. Что ж это, разоблачения, должно быть?
— Разоблачения, — сказал я.
— Воображаю…
Я вышел во двор. Когда мы выезжали со двора, старичок бросился к саням, снял шапку и сказал:
— Прощайте, господин. Счастливый путь-дороженька. А про сенатора — врут… Ей-бо, врут… Дражнят старика…
Он еще что-то бормотал, я не расслышал — сани наши были уже на улице.
Извозчик мой тихонько смеялся.
— А что, — спросил я его, — как же он тут живет? У кого? Кто его держит?
— Сын… Сын его держит, — сказал извозчик, давясь от смеха.
— Как сын? Какой сын?
— Обыкновенно какой… Родной сын. Мужик. Крестьянин. Я не здешний, не знаю сам… Люди говорят… На воспитанье, будто, сенатор сына сюда отдал. К бабке Марье… Будто он в прежнее время его от актриски одной прижил… Неизвестно это нам… Мы не здешние…
— А ведь старик, пожалуй что, безумный, — сказал я.
— Чего-с?
— Сумасшедший, говорю, старик-то. Вряд ли его кто разыскивает.
— Зачем сумасшедший? — сказал извозчик: — Не сумасшедший он. Нет. Хитровой только старик. Хитрит, сукин сын. Мы, бывало, к ним соберемся и давай крыть старика: какой есть такой? документы? объясняй из прежнего. Затрясется старик, заплачет. Ну, да нам что… Пущай живет… Может, ему год жизни осталось. Нам что…
Извозчик хлестнул кнутовищем, потом выскочил из саней и побежал рядом со своей кобылкой.
Пелагея была женщина неграмотная. Даже своей фамилии она не умела подписывать. А муж у Пелагеи был ответственный советский работник. И хотя он был человек простой, из деревни, но за пять лет житья в городе поднаторел во всем. И не только фамилию подписывать, а чорт знает, чего только не знал. И очень он стеснялся, что жена его была неграмотной.
— Ты бы, Пелагеюшка, хоть фамилию подписывать научилась, — говорил он. — Легкая такая у меня фамилия, из двух слогов — Куч-кин, а ты не можешь… неловко…
А Пелагея, бывало, рукой махнет и отвечает:
— Ни к чему, дескать, мне это, Иван Николаевич. Годы мои постепенно идут. Рука специально не гнется. На что мне теперь учиться и буквы выводить? Пущай лучше молодые пионеры учатся, а я и так до старости доживу.
Муж у Пелагеи был человек ужасно какой занятой и на жену много времени тратить не мог. Покачает он головой — ох, дескать, Пелагея, Пелагея… И замолчит.
Но однажды все-таки принес Иван Николаевич специальную книжку.
— Вот, — говорит, — Поля, новейший букварь-самоучитель, составленный по последним методам. Я, — говорит, — сам буду тебе показывать.
А Пелагея усмехнулась тихо, взяла букварь в руки, повертела его и в комод спрятала — пущай, дескать, лежит, может, потомкам пригодится.
Но вот однажды днем присела Пелагея за работу. Пиджак Ивану Николаевичу надо было починить, рукав протерся.
И села Пелагея за стол. Взяла иголку. Сунула руку под пиджак — шуршит что-то.
«Не деньги ли?» — подумала Пелагея.
Посмотрела, — письмо. Чистый такой, аккуратный конверт, тоненькие буковки на нем, и бумага вроде как духами или одеколоном попахивает. Екнуло у Пелагеи сердце.
«Неужели же, — думает, — Иван Николаевич меня зря обманывает? Неужели же он сердечную переписку ведет с порядочными дамами и надо мной же, неграмотной дурой, насмехается?»
Поглядела Пелагея на конверт, вынула письмо, развернула — не разобрать по неграмотности.
Первый раз в жизни пожалела Пелагея, что читать она не может.
«Хоть, — думает, — и чужое письмо, а должна я знать, чего в нем пишут… Может, от этого вся моя жизнь переменится, и мне лучше в деревню ехать, на мужицкие работы».
Заплакала Пелагея, стала вспоминать, что Иван Николаевич, будто, переменился в последнее время, — будто, он стал об усишках своих заботиться и руки чаще мыть.
Сидит Пелагея, смотрит на письмо и ревет белугой. А прочесть письмо не может. А чужому человеку показать совестно.
После спрятала Пелагея письмо в комод, дошила пиджак и стала дожидать Ивана Николаевича. И когда пришел он, Пелагея и виду не показала. Напротив того, она ровным и спокойным тоном разговаривала с мужем и даже намекнула ему, что она непрочь бы поучиться, и что ей чересчур надоело быть темной и неграмотной бабой.
Очень этому обрадовался Иван Николаевич.
— Ну и отлично, — сказал он. — Я тебе сам буду показывать.
— Что ж, показывай, — сказала Пелагея.
И в упор посмотрела на ровные, подстриженные усики Ивана Николаевича.
Два месяца подряд Пелагея изо дня в день училась читать. Она терпеливо по складам составляла слова, выводила буквы и заучивала фразы. И каждый вечер вынимала из комода заветное письмо и пыталась разгадать его таинственный смысл.
Однако, это было очень нелегко. Только на третий месяц Пелагея одолела науку.
Утром, когда Иван Николаевич ушел на работу, Пелагея вынула из комода письмо и принялась читать его.
Она с трудом разбирала тонкий почерк, и только еле уловимый запах духов от бумаги подбадривал ее.
Письмо было адресовано Ивану Николаевичу.
Пелагея читала:
«Уважаемый товарищ Кучкин!
Посылаю вам обещанный букварь. Я думаю, что ваша жена в два-три месяца вполне может одолеть премудрость. Обещайте, голубчик, заставить ее это сделать. Внушите ей, объясните, как, в сущности, отвратительно быть неграмотной бабой.
Сейчас, к этой годовщине, мы ликвидируем неграмотность по всей Республике всеми средствами, а о своих близких почему-то забываем.
Обязательно это сделайте, Иван Николаевич.
С коммунистическим приветом
Мария Блохина».
Пелагея дважды перечла это письмо и, скорбно сжав губы и, чувствуя какую-то тайную обиду, заплакала.
Каждый день один за другим шли поезда с севера на юг. Тысячи замученных, бледных северян, изумляясь необыкновенному солнцу и нестерпимой жаре, вылезали из-под раскаленных крыш вагонов. Среди этих изумленных северян был и я.
На одной маленькой промежуточной станции я сошел с поезда с небольшим своим багажом. Я бросил чемодан на платформу и присел на него, ожидая, что ко мне со всех ног бросится куча носильщиков. Я уже рассчитал, что выберу себе здоровенного загорелого парня.
Однако, носильщики ко мне не бросились. Станция была почти пуста.
На платформу вышел только начальник станции — босой, в расстегнутой белой блузе. Он с явным недовольством посмотрел заспанными глазами на поезд, зевнул, потом снова посмотрел на поезд и вдруг с негодованием махнул на него фуражкой.
Поезд, лязгая буферами, пошел дальше.
Я сидел на своем чемодане, тяжело дыша от непривычной жары. Носильщиков не было.
— Товарищ, — крикнул я начальнику станции, — извиняюсь, товарищ… Есть тут носильщики?
Начальник станции остановился, подтянул штаны и, видимо, только сейчас заметив меня, сказал:
— Сейчас. Одну минуту.
И вошел в помещение.
Через минуту он вернулся застегнутый и в сапогах и любезным тоном спросил:
— Вам чего? Носильщиков? А вот носильщики. Спят.
Действительно, за углом дома лежали на животах трое ужасно загорелых мальчишек. Двое из них спали. Третий, совсем, небольшой, лет двенадцати, вскочил при виде нас на ноги.
— Чего? Вещи, что ли, нести, гражданин? — спросил он деловым тоном.
— Вещи… Вот чемодан… Легкий…
— Можно, — сказал парнишка. — Только Палькина очередь. Спит он еще. Вы обождите.
— А ты не можешь?
— Да-а, — сказал парнишка, — Палька драться будет. Его очередь.
Начальник станции подмигнул мне и засмеялся.