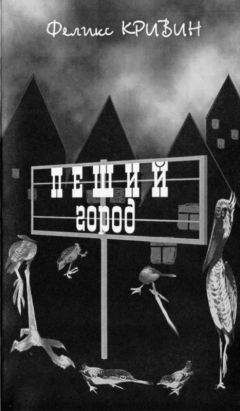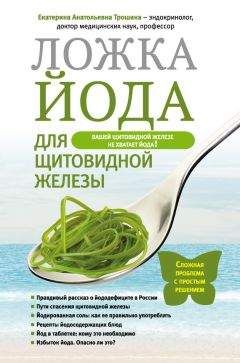И, конечно, когда в дверь кто-то стукнул, Зяблик не сомневался, что это пришли за ним. «Вот она, наша жизнь, — только и успел подумать он, — она похожа на палку и хотя имеет один конец, но этим концом достает каждого».
Поэтому, увидев Дятенка, Зяблик словно наново на свет родился.
— Дятенок, — бормотал он, — Дятеночек… Это так хорошо, что вы пришли!
— Тсс! — сказал Дятенок. Я вас не знаю, вы меня не знаете. Мы встретились совершенно случайно.
— Дятенок, что с вами? Вы меня не узнали?
И тут Дятенок поднялся на цыпочки. Он поднялся ровно настолько, чтобы дотянуться до уха Зяблика, и шепнул:
— Завтра в полночь!
Ух ты, как интересно! Совсем как в той книжке, которую Зяблик недавно читал. Но что же произойдет в полночь? И почему об этом неизвестно Зяблику? Ну, конечно, он же уже два дня не выходит из дома. Он специально взял отгул, чтобы застраховать себя от возможных случайностей…
Дятенок опять поднялся на цыпочки:
— Мы уведем их из каменных стен…
Да, видно, готовится что-то интересное. Как в той книжке… Зяблик забыл название… Конечно, это будет именно так… Ночь… Полночь… Зяблик выходит… Он идет… Подходит… «О, это вы?» — «Да, это я». Зяблик срывает черную полумаску. Потом не спеша… совсем не спеша приближается… и — «Ура! Да здравствует Зяблик!» Громче всех кричит Пеночка. И Трясогузка тоже. «Ах, Зяблик… вы такой!..»
И тут в дверь постучали.
Зяблик обмер: конечно, это пришли за ним. Значит, Сорокопут написал, не удержался. Все пропало, Зяблика сейчас заберут. «В смерти моей прошу винить отсутствие здоровья, благосостояния, а также взаимности в любви», — вспомнил он любимые строчки.
— Дятенок, — прошептал Зяблик, — это за мной. Прощайте, больше мы с вами никогда не увидимся… Передайте Пеночке, что я ее любил… И Трясогузке передайте то же самое…
Да, в последнюю минуту Зяблик подумал о Пеночке. Пусть она об этом узнает и пусть пожалеет, что так бессердечно с ним обошлась. Пеночка никогда не любила Зяблика. Как странно, ведь она никогда его не видела. Разве можно не любить, ни разу не видев? Зяблик не решался ей открыться, он молча страдал, а потом пришла Трясогузка. Вернее, не она, а он к ней пришел, чтобы застраховать ее жизнь. Трясогузка не хотела страховаться, она говорила, что ее жизнь ничего не стоит, но Зяблик ее разубедил, показав таблицу, в которой было точно указано, сколько стоит Трясогузкина жизнь в зависимости от срока договора. «Зяблик, вы мне вернули веру, — сказала она, — неужели теперь вы меня покинете?» Нет, Зяблик ее не покинул, он приходил всякий раз, когда нужно было уплачивать страховые взносы… А вот к Пеночке Зяблик не приходил, и она так и осталась незастрахованной…
— Это не за вами, — вмешался в его мысли Дятенок, — это за мной.
— Вы точно знаете? Тогда я пойду открою.
Он открыл дверь и обнаружил за ней Сорокопута. Сорокопут просто шел мимо и подумал: дай-ка зайду. Почему бы не зайти к другу Зяблику?
— Заходите, Сорокопут, заходите. А я уже было собрался к вам… Вы знаете, что завтра в полночь?
— Что случилось, Зяблик? О чем мы говорим? Может, это как-то связано с моей работой?
— Все связано одно с другим, — загадочно произнес Зяблик.
— У меня все готово, я могу приступать, — на всякий случай заверил Сорокопут. — Меня уволили совсем незаконно… То есть, не совсем не законно, а законно, но не совсем…
Зяблик сказал:
— Совершенно конфиденциально: завтра в полночь, у каменных стен… Но, Сорокопут, это строго между нами!
— Зяблик, вы знаете меня!
— Тсс!
— Какие могут быть разговоры!
Начальник тайной полиции Марабу
Дятел давно привык к тому, что никому, кроме своей семьи, он не нужен, что до него никому нет дела, даже тем, для кого он стучал в ворота, когда стоял на своем посту. И вдруг его окружили вниманием.
Его принимали у себя птицы, к которым в обычное время не так просто было попасть на прием, они расспрашивали Дятла о жизни и проявляли живой интерес к мельчайшим подробностям его биографии. Беседовал с Дятлом сам начальник тайной полиции Марабу, по всей вероятности, иностранец, потому что его слова, веско звучавшие каждое в отдельности, как-то неуклюже согласовывались между собой.
Внешне начальник тайной полиции не имел особых примет, хотя считал наличие их чуть ли не главным достоинством. Если бы он не был начальником тайной полиции, он был бы как две капли похож на всех остальных марабу, — хотя правда и то, что не будь он Марабу, он был бы как две капли похож на всех остальных начальников тайной полиции.
— Скажите, — спрашивал он, — вы имел сообщники?
— У меня жена, — отвечал Дятел, — и д-двое детей. Это все мои сообщники.
— Жена и дети — это семья, — мягко разъяснял Марабу. — Назовите ваши сообщники.
— Может, применить? — предлагал Филин.
— Не надо применить, — возражал Марабу так мягко, что у Филина кровь стыла в жилах. И опять обращался к Дятлу: — Вы подумай. Если можно так выразиться, пораскинь головой. Я всегда так делал, когда хочу что-нибудь вспомнить.
Он отпускал Дятла, но не успевал тот дойти до клетки, как его вызывали снова. На этот раз Дятла допрашивал Филин.
— Ах ты, такой-сякой! — кричал Филин, заменяя местоимения точными определениями. — Будешь ты говорить или нет?
— У нас есть сведения, что ты летал на работу очертя голову.
— Но ведь я не в том смысле… Как честный гражданин…
— Дурак ты, а не гражданин! — обрывал Филин, как будто два эти понятия исключали друг друга.
За спиной Филина неслышно вырастал Марабу.
— В каком же смыслах? Скажите, если не секрет. Дятел был глупый, но умный. Поэтому он настаивал на переносном смысле. А что касается секретов, то какие могут быть секреты от полиции?
— Мне нравится ваша физиономия, — говорил Марабу. — Не может быть, чтобы у Дятла с такой физиономией не был сообщники.[5]
Дятел был польщен. Марабу ему все больше нравился. Особенно по сравнению с этим неотесанным Филином. Были б у Дятла сообщники, он бы непременно назвал их всех. Но у Дятла не было сообщников.
— Может, вы что-нибудь скажете про плотник Скворец? Или про этот, сапожник? — пытался ему помочь Марабу. — Не правда ли, очень интересные птицы, особенно для нас, для полиции? А каменщик Жаворонок? Ему, если можно так выразиться, камень в рот не клади?
— Я не знаю. Я с ним п-почти не знаком.
— Я устал от эти разговоры, — вздыхал Марабу. — Вы, Дятел, как видно, больше вынослив… Хотя, — грустно добавил он, — по-настоящему вынослив становишься после того, как тебя вынесут.
— Вынесут? — всполошился Дятел. — Нет, зачем же, я могу уйти сам, вы т-только скажите!
— Я вас понимаю, — говорил Марабу. — У всех тяжело. Иногда хоть бери и повешайся. Но жизнь это жизнь. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось… если, конечно, можно так выразиться.
Дятлу начинало казаться, что Марабу им недоволен. Филин недоволен — пусть, но Марабу, мягкий, умный, немного грустный Марабу… Дятел готов был назвать кого угодно, но все имена, как на грех, вылетели из его памяти, и в ней болтались только два имени: Филин и Марабу.
— Может, применить? — предлагал свои услуги начальник явной полиции.
— Не надо применить.
Постепенно Дятел осваивался в новой обстановке. Он шел на допрос, как ходил, бывало, на работу, и беседовал с Марабу легко и просто, как со старшим привратником.
Мастерская сапожника Шилохвоста
Корелла и Розелла, две миловидные попугаечки, сегодня с утра в заботах. Нужно срочно достать сапожки — знаете, такие, как у Цесарки: шиферно-серые, с небольшой грязнотцой. Это так элегантно, говорит Корелла, это так элегантно, говорит Розелла, что просто невыносимо их не достать.
Да, в жизни нет ничего вечного. Подумать только, еще вчера можно было ходить в красных сапожках (с небольшой желтоватинкой), еще вчера это казалось красивым, а сегодня — подумать только! — это уже устарело, говорит Розелла, устарело, говорит Корелла, и нужно снова бегать что-то искать.
Мастер Шилохвост, заваленный сапогами так, словно собирался совершить пешком кругосветное путешествие, поднял глаза на посетителей и молча указал на табличку: «Здравствуйте. Заходите. Садитесь и — извините!»
Мастер Шилохвост был занят, он не мог тратить время на разговоры, и обычно, пока он трудился, посетителей развлекали его таблички. «Как живете? Как здоровьице? Не волнуйтесь! Все устроится!..», «А погода подвела. Да… такие-то дела…»
Но Корелла и Розелла не стали поддерживать этот разговор с сапожником, а сразу нырнули в кучу обуви, выныривая лишь для того, чтобы обменяться впечатлениями, которые были то яркими, то бледными — в зависимости от расцветки обуви. Вот эти, желтенькие, довольно милы, сказала Корелла, довольно милы, сказала Розелла, и обе снова исчезли в куче сапог.