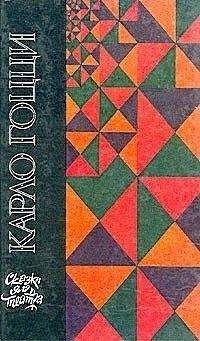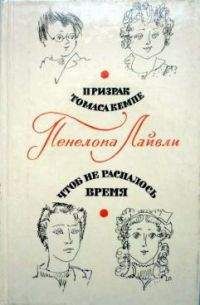Могу стрелять — в жару, когда ствол раскаляется, и в холод, когда пальцы приклеиваются к металлу.
Могу разместить на крыше дома пулеметы так, чтобы простреливался целый квартал, могу разработать план захвата или нападения, могу бросить гранату или убить человека с одного удара — человека так легко убить.
Я все это еще могу…
В коридоре за дверью слышались возня и грохот сапог. Оттуда тянулся портяночный запах растревоженной казармы.
Вот и утро. «Народ» наш еще спит, проснулся только я.
В каюте у нас три койки: две подряд и одна с краю. На ближней к двери спит СМР (читать надо так: Сэ-Мэ-эР — у него такие инициалы), на следующей — я, а на той, что в стороне, развалился Лоб.
Обычно курсантские клички — точный слепок с человека, но почему меня называют Папулей, я понятия не имею. Вот Лоб — это Лоб. Длинный, лохматый, тощий, целых два метра и сверху гнется. Вот он, собака, дышит. Опять не постирал носки. Чтоб постоянно выводить его из себя, достаточно хотя бы раз в сутки, лучше в одно и то же время, примерно в 22 часа, спрашивать у него: «Лоб, носки постирал?» А еще лучше разбудить и спросить.
СМР дышит так, что не поймешь, дышит ли он вообще. Если б в сутках было двадцать пять часов, СМР проспал бы двадцать шесть. Он всегда умудряется проспать на один час больше того, что физически возможно.
СМР — вдохновенный изобретатель поз для сна. Он может охватить голову левой рукой и, воткнув подбородок в сгиб локтя, зафиксировать ее вертикально. Не вынимая ручки из правой руки, он втыкает ее в конспект и так спит на лекциях. В мои обязанности в таких случаях входит подталкивание его при подходе преподавателя. Тогда первой просыпается ручка: сначала она чертит неровную кривую, а потом появляются буквы.
СМР с детства плешив. Когда его спрашивают, как это с ним случилось, он с удовольствием перечисляет: пять лет по лагерям (по пионерским — родители отправляли его на три смены, не вынимая), три года колонии для малолетних преступников (он закончил Нахимовское училище) и пять лет южной ссылки (как неисправимый троечник, он был направлен в Каспийское училище вместо Ленинградского).
Правда, если его спросить: «Слушай, а отчего ты так много спишь?» — он, не балуя разнообразием, затянет: «Пять лет по лагерям…»
Шесть часов утра. Мы живем в казарме. У нас отдельная каюта. Замок мы сменили, а дырку от ключа закрыли наклеенными со стороны каюты газетами. Так что найти нас или достать невозможно. Не жизнь, а конфета. Вообще-то, уже две недели как мы на практике, на атомных ракетоносцах. По-моему, ракетоносцы об этом даже не подозревают. Встаем мы в восемь, идем на завтрак, потом сон до обеда, обед, сон до ужина, ужин и кино. И так две недели. Колоссально. Правда, лично я уже смотрю на койку как на утомительный снаряд — все тело болит.
Раздается ужасный грохот: кто-то барабанит в нашу дверь. СМР вытаскивается из одеяла:
— Ну, чего надо?
«Народ» наш проснулся, но вставать лень. Стучит наверняка дежурный. Вот придурок (дежурными стоят мичмана).
— Жопой постучи, — советует СМР.
Мы с Лбом устраиваемся, как римляне на пиру, сейчас будет весело. Грохот после «жопы» усиливается. Какой-то бешеный мичман.
— А теперь, — СМР вытаскивает палец из-под одеяла и, налюбовавшись им, милостиво тыкает в дверь, — го-ло-вой!
Дверь ходит ходуном.
— А теперь опять жопой! — СМР уже накрылся одеялом с головой, сделал в нем дырку и верещит оттуда. В дверь молотят ногами.
— Вот дурак! — говорит нам СМР и без всякой подготовки тонко, противно вопит: — А теперь опять головой!
За дверью слышится такой вой, будто кусают бешеную собаку.
— Жаль человека, — роняет СМР со значением, — пойду открою.
Он закутывается в одеяло и торжественный, как патриций, отправляется открывать.
— Заслужил, бя-аш-ка, — говорит он двери и, открыв, еле успевает отпрыгнуть в сторону.
В дверь влетает капитан первого ранга, маленький, как пони, примерно метр от пола. Он с воем, боком, как ворона по полю, скачет до батареи, хватает с нее портсигар с сигаретами и, хрякнув, бьет им об пол.
— Вста-атъ!
Мы встаем. Это командир соседей по кличке «Мафия», или «Саша — тихий ужас», вообще-то интеллигентный мужчина.
— Суки про-то-коль-ные! — визжит он поросенком на одной ноте. — Я вас научу Родину любить!
Мы в трусах, босиком, уже построены в одну шеренгу. Интересно, пороть будет или как?
— Одеться!
Через минуту мы одеты. Мафия покачивается на носках. Кличку он получил за привычку, втянув воздух, говорить: «У-у-у, мафия!»
— Раздеться!
Мы тренируемся уже полчаса: минута — на одевание, минута — на раздевание. Мафия терпеть не может длинных. Всех, кто выше метр двадцать, он считает личным оскорблением и пламенно ненавидит. К сожалению, даже мелкий СМР смотрит на него сверху вниз.
— А тебя-а, — Мафия подползает к двухметровому Лбу, — тебя-а, — захлебывается он, подворачивая головой, — я сгною! Сначала остригу. Налысо. А потом сгною! Ты хочешь, чтоб я тебя сгноил?
В общем-то, Лоб у нас трусоват. У него мощная шевелюра и ужас в глазах. От страха он говорить не может и потому мотает головой. Он не хочет, чтоб его сгноили.
Мафия оглядывает СМРа: так, здесь стричь нечего, и меня, но я недавно стригся.
— Я перепишу вас к себе на экипаж. Я люблю таких… Вот таких… У-ро-ды!
В этот момент, как-то подозрительно сразу, Мафия успокаивается. Он видит на стене гитару. СМР делает нетерпеливое шейное движение. Это его личная гитара. Если ею брякнут об пол…
— Чья гитара?
— Моя.
— Разрешите поиграть? — неожиданно буднично спрашивает Мафия.
СМР от неожиданности давится и говорит:
— Разрешаю.
Через минуту из соседней комнаты доносится плач гитары и «Темная ночь…».
После обеда мы решили не приходить. Лоб и я. В каюту пошел только СМР.
— Не могу, — объяснил он, — спать хочу больше, чем жить. Закроюсь.
Ровно в 18.00 он открыл нам дверь, белый, как грудное молоко.
— Меня откупоривали.
Как только СМР после обеда лег, он сразу перестал дышать. Через двадцать минут в дверь уже барабанили.
— Открой, я же знаю, что ты здесь, хуже будет.
За дверью слышалась возня. Два капитана первого ранга, командиры лодок, сидели на корточках и пытались подсмотреть в нашу замочную скважину. Через три листа газеты нас не очень-то и увидишь.
— Ни хрена не видно, зелень пузатая, дырку заделали. Дежурный, тащи сюда все ключи, какие найдешь.
Скоро за дверью послышалось звяканье и голос Мафии:
— Так, так, так, вот, вот, вот, уже, уже, уже. Во-от сейчас достанем. Эй, может, сам выйдешь? Я ему матку оборву, глаз на жопу натяну.
СМР чувствовал себя мышью в консервной банке: сейчас откроют и будут тыкать вилкой.
— Вот, вот уже.
Сердце замирало, пот выступал, тело каменело. СМР становился все более плоским.
— Тащи топор, — не унывали открыватели. — Эй, ты, — шипели за дверью, — ты меня слышишь? Топор уже тащат.
СМР молчал. Сердце стучало так, что могло выдать.
— Ну, ломаем? — решали за дверью. — Тут делать нечего — два раза тюкнуть. Ты там каюту еще не обгадил? Смотри у меня. Да ладно, пусть живет. Дверь жалко. Эй, ты, хрен с бугра, ты меня слышишь? Ну, сука потная, считай, что тебе повезло.
Возня стихла. У СМРа еще два часа не работали ни руки ни ноги.
Я встретил Мафию через пять лет.
— Здравия желаю, товарищ капитан первого ранга.
Он узнал меня:
— А, это ты?
— Неужели помните?
— Я вас всех помню.
И я рассказал ему эту историю. Мы еще долго стояли и смеялись.
Он был уже старый, домашний, больной.
Зам сидел в кают-компании на обеде и жевал. У него жевало все: уши, глаза, ноздри, растопыренная челка, ну и рот, само собой. Неприступно и торжественно. Даже во время жевания он умудрялся сохранять выражение высокой себестоимости всей проделанной работы.
Напротив него, на своем обычном месте сидел помощник командира по кличке «Поручик Ржевский» — грязная скотина, матерщинник и бабник.
Зам старался не смотреть на помощника, особенно на его сальные волосы, губы и воротничок кремовой рубашки. Это не добавляло аппетита.
Зам был фантастически, до неприличия брезглив. Следы вестового на стакане с чаем могли вызвать у него судороги.
Помощник внимательно изучал лицо жующего зама сквозь полузакрытые веки. Они были старые враги.
«Зам младше на три года и уже капитан третьего ранга. Им что — четыре года, и уже человек, а у нас — пять лет — и еще говно. Заму-у-уля. Великий наш. Рот закрыл — матчасть в исходное. Изрек — и в койку. X-х-хорек твой папа».
Помощник подавил вздох и заковырял в тарелке. Его только что отодрали нещадно-площадно. Вот эта довольная рожа напротив: «Конспекты первоисточников… ваше полное отсутствие… порядок на камбузе… а ваш Атахаджаев опять в лагуне ноги мыл…» — и все при личном составе, курвеныш.