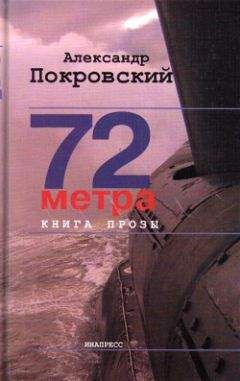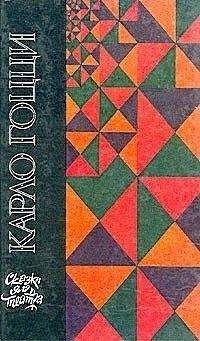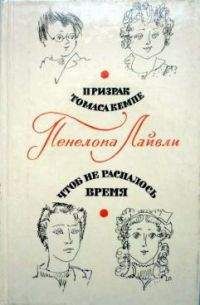Слаба у нас индивидуальная подготовка! Слаба.
Не готовы замы к кипятку. Не готовы. И к чему их только готовят?
Наконец мы очнулись и бросились на помощь. Я зачем-то схватил зама за руки, а мой мичман, мастер военного дела, кричал: «Ой! Ой!» – и хлопал его зачем-то руками по спине. Тушил, наверное.
– Беги за подсолнечным маслом! – заорал я мичману. Тот бросил зама и с воплями: «Сварили! Сварили!» – умчался на камбуз.
Там у нас служили наши штатные мерзавцы.
– Насмерть?! – спросили они быстро. Им хотелось насмерть.
Мой мичман выпил у них от волнения воду из того лагуна, где мыли картошку, и сказал:
– Не знаю.
За то, что он «не знает», ему налили полный стакан.
Мы раздели зама и начали лечить его бедное тело. Он дрожал всей кожей и исторгал героические крики.
Однако и проняло же его! М-да-а. А проняло его от самой шеи до самых ягодиц и двумя ручьями затекло ниже пояса вперед и там, спереди, – ха-ха – все тоже обработало!
Спасло его только то, что при +28оС в отсеке он вместо нижнего белья носил шерстяной костюм.
Своя шерсть у него вылезла чуть позже – через неделю. Кожа, та тоже слезла, а там, где двумя ручьями затекло, там – ха-ха – снималось, как обертка с сосиски, то есть частично вместе с сосиской.
– Ну, как наши дела? – вполз он к нам на боевой пост осторожненько через две недели, живой. – Воду не кипятите?..
– Смирно!
– Вольно!
В центральный пост атомного ракетоносца, ставший тесным от собранных командиров боевых частей, решительно врывается комдив, на его пути все расступаются.
Подводная лодка сдает задачу номер два. Море, подводное положение, командиры и начальники собраны на разбор задачи, сейчас будет раздача слонов и пряников.
Комдив – сын героя. Про него говорят: «Сын героя – сам герой!» Поджарый, нервный, быстрый, злющий, «хамло трамвайное». Когда он вызывает к себе подчиненных, у тех начинается приступ трусости. «Разрешите?» – открывают они дверь каюты комдива; открывают, но не переступают, потому что навстречу может полететь бронзовая пепельница и в это время самое главное – быстро закрыть дверь; пепельница врезается в нее, как ядро, теперь можно открывать – теперь ничего не прилетит. Комдив кидается, потому что «сын героя».
– Та – ак! Все собраны? – Комдив не в духе, он резко поворачивается на каблуках и охватывает всех быстрым, злым взглядом.
– Товарищ комдив! – к нему протискивается штурман с каким-то журналом. – Вот!
Комдив смотрит в журнал, багровеет и орет:
– Вы что? Опупели?! Чем вы думаете? Головой? Жопой? Турецким седлом?!
После этого он бросает журнал штурману в рожу. Рожа у штурмана большая, и сам он большой, не промахнешься; журнал не закрывает ее даже наполовину: стукается и отлетает. Штурман, отшатнувшись, столбенеет, «опупел», но ровно на одну секунду, потом происходит непредвиденное, потом происходит свист, и комдив, «сын героя», получив в лобешник (в лоб, значить) штурманским кувалдометром (кулачком, значить), взлетает в воздух и падает в командирское кресло, и кресло при этом разваливается, отваливается спинка и подлокотник.
Оценепело. Комдив лежит… с ангельским выражением… с остановившимися открытыми глазами… смотрит в потолок… рот полуоткрыт. «Буль-буль-буль», – за бортом булькает дырявая цистерна главного балласта… Ти-хо, как перед отпеванием; все стоят, молчат, смотрят, до того потерялись, что даже глаза комдиву закрыть некому; тяжко… Но вот лицо у комдива вдруг шевельнулось, дрогнуло, покосилось, где-то у уха пробежала судорога, глаза затеплели, получился первый вдох, который сразу срезонировал в окружающих: они тоже вдыхают; покашливает зам: горло перехватило. Комдив медленно приподнимается, осторожно садится, бережно берет лицо в ладони, подержал, трет лицо, говорит:
– М-да-а-а… – думает, после чего находит глазами командира и говорит: – Доклад переносится на двадцать один час… Помогите мне…
И ему, некогда такому поджарому и быстрому, помогают, под руки, остальные провожают взглядами. На трапе он чуть-чуть шумно не поскользнулся: все вздрагивают, дергают головами, наконец он исчезает; командование корабля, не подав ни одной команды, тоже; офицеры, постояв для приличия секунду-другую, расходятся по одному; наступает мирная сельская тишина…
Нет-нет-нет, штурману ничего не было, и задача была сдана с оценкой «хорошо».
– Химик! В качестве чего вы служите на флоте? В качестве мяса?!
Автономка. Четвертые сутки. Командир вызвал меня в центральный, и теперь мы общаемся.
– Где воздух, химик?
– Тык, товарищ командир, – развожу я руками, – пошло же сто сорок человек. Я проверил по аттестатам. А установка (и далее скучнейший расчет)… а установка (цифры, цифры, а в конце)… и больше не может. Вот, товарищ командир.
– Что вы мне тут арифметику… суете?! Где воздух, я вас спрашиваю? Я задыхаюсь. Везде по девятнадцать процентов кислорода. Вы что, очумели? Четвертые сутки похода, не успели от базы оторваться, а у вас уже нет кислорода. А что же дальше будет? Нет у вас кислорода – носите его в мешке! Что же нам, зажать нос и жопу и не дышать, пока у вас кислород не появится?!
– Тык… товарищ командир… я же докладывал, что в автономку можно взять только сто двадцать человек…
– Не знаю! Я! Все! Идите! Если через полчаса не будет по всем отсекам по двадцать с половиной процентов, выверну мехом внутрь! Идите, вам говорят! Хватит сопли жевать!
Скользя по трапу, я про себя облегчал душу и спускал пары:
– Ну, пещера! Ну, воще! Терракотова бездна! Старый гофрированный…. коз-зел! Кто управляет флотом? Двоечники! Короли паркета! Скопище утраченных иллюзий! Убежище умственной оскопленности! Кладбище тухлых бифштексов! Бар-раны!..
Зайдя на пост, я заорал мичману:
– Идиоты! Имя вам – легион! Ходячие междометия. Кислород ему рожай! Понаберут на флот! Сейчас встану в позу генератора, лузой кверху, и буду рожать!
Вдохнув в себя воздух и успокоившись, я сказал мичману:
– Ладно, давай пройдись по отсекам. Подкрути там газоанализаторы. Много не надо. Сделаешь по двадцать с половиной.
– Товарищ командир, – доложил я через полчаса, – везде стало по двадцать с половиной процентов кислорода.
– Ну вот! – сказал командир весело. – И дышится, сразу полегчало. Я же каждый процент шкурой чувствую. Химик! Вот вас пока не напялишь… на глобус… вы же работать не будете…
– Есть, – сказал я, – прошу разрешения. – Повернулся и вышел.
А выходя, подумал: «Полегчало ему. Хе-х, птеродактиль!»
Этого кота почему-то нарекли Пардоном. Это был страшный серый котище самого бандитского вида, настоящее украшение помойки. Когда он лежал на теплой палубе, в его зеленых глазах сонно дремала вся его беспутная жизнь. На тралец его затащили матросы. Ему вменялось в обязанность обнуление крысиного поголовья.
– Смотри, сука, – пригрозили ему, – не будешь крыс ловить, за яйца повесим, а пока считай, что у тебя пошел курс молодого бойца.
В ту же ночь по кораблю пронесся дикий визг. Повыскакивали кто в чем: в офицерском коридоре Пардон волок за шкурку визжащую и извивающуюся крысу, почти такую же громадную, как и он сам, – отрабатывал оказанное ему высокое доверие. На виду у всех он задавил ее и сожрал вместе со всеми потрохами, после чего, раздувшись, как шар, рыгая, икая и облизываясь, он важно продефилировал, перевалился через комингс и, волоча подгибающиеся задние ноги и хвост, выполз на верхнюю палубу подышать свежим морским воздухом, наверное, только для того, чтобы усилить в себе обменные процессы.
– Молодец, Пардон! – сказали все и отправились досыпать.
Неделю длилась эта кровавая баня: визг, писк, топот убегающих ног, крики и кровь наполняли теперь матросские ночи, а кровавые следы на палубе вызывали у приборщиков такое восхищение, что Пардону прощались отдельные мелочи жизни. Пардона на корабле очень зауважали, даже командир разрешил ему появляться на мостике, где Пардон появлялся регулярно, повадившись храпеть в святое для корабля время утреннего распорядка. Он стал еще шире и лишь лениво отбегал в сторону при встрече с минером.
Есть мнение, что минные офицеры – это флотское отродье с идиотскими штуками. Они могут вставить коту в зад детонатор, поджечь его и ждать, пока он не взорвется (детонатор, естественно). Есть подозрение, что минные офицеры – это то, к чему приводит офицера на флоте безотцовщина. Минер – это сучье вымя, короче. Пардон чувствовал подлое племя на расстоянии.
– Ну, кош-шара! – всегда восхищался минер, пытаясь ухватить кота, но тот ускользал с ловкостью мангусты.
– Ну, сукин кот, попадешься! – веселился минер.
«Как же, держи в обе руки», – казалось, говорил Пардон, брезгливо встряхивая лапами на безопасном расстоянии.
Дни шли за днями, Пардон ловко уворачивался от минера, давил крыс и сжирал их с исключительным проворством, за что любовь к нему все возрастала. Однако через месяц процесс истребления крыс достиг своего насыщения, а еще через какое-то время Пардон удивил население корабля тем, что интерес его к крысам как бы совсем ослабел, и они снова беспрепятственно забродили по кораблю. Дело в том, что, преследуя крыс, Пардон вышел на провизионку. И все. Боец пал. Погиб. Его, как и всякую выдающуюся личность, сгубило изобилие. Его ошеломила эта генеральная репетиция рая небесного. Он зажил, как у Христа под левой грудью, и вскоре выражением своей обвислой рожи стал удивительно напоминать интенданта. Пардон попадал в провизионку через дырищу за обшивкой. Со всей страстью неприкаянной души помоечного бродяги он привязался к фантастическим кускам сливочного масла, связкам колбас полукопченых и к сметане. Крысы вызывали теперь в нем такое же неприкрытое отвращение, какое они вызывают у любого мыслящего существа. Вскоре бдительность его притупилась, и Пардон попался. Поймал его кок. Пардона повесили за хвост. Он орал, махал лапами и выл что-то сквозь зубы, очень похожее на «мать вашу!».