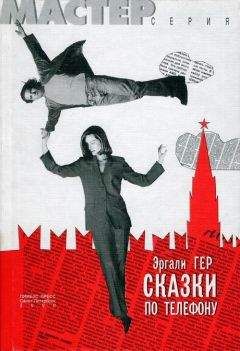Ознакомительная версия.
– Дзынь!
Мама, привет, у нас, как всегда, замот. Да нет, все в порядке. Чудище здорово – еще как! А у вас? Более-менее? Ну хорошо. Мам, все, извини, бегу.
Доглатываем чай. Без двадцати двенадцать. Аврал! Ирка, заговаривая Чудищу зубы, впихивает ее в комбинезончик, я споласкиваю чашку, хватаю тетрадку, ручку и нахожу «рыбу».
Дз-зынь!
Витька, старик, жутко рад тебя слышать. Ты сегодня дома? Я позвоню, ага? А то сейчас тут все кувырком. Извини. Ну, хоп.
– Димка, скорее, она уже парится!
– Я вот он!
Запах прелой листвы и свежего намокшего асфальта ударяет в ноздри. Засадив Чудище в песочницу, примощаюсь рядом в развилке дерева, вынимаю тетрадь. Наши цели ясны, задачи определены… Вперед!
Вот она, моя «рыба»: бу-бу-б'у, бу-бу-б'у, бу-бу-б'у-бу. Трехстопный анапест, чудненько! А про что, интересно, это бу-бу? Как сценарий-то называется? «Могучая поступь державы». Отлично, как раз в размер попадает. Строчка есть.
Для скорейшего прихода вдохновения представляю себе восемь новеньких двадцатипятирублевок.
«И могучая поступь державы…»
Ну, понеслось. Это будет третья строчка. Теперь нужен глагол. Что может делать поступь? Греметь может, идти… Нет, идти поступь не может. Слышаться? «И могучая поступь державы на такой-то планете слышна». На какой? На зеленой планете слышна. Почему на зеленой? Вообще-то Земля голубая, но голубая не влезает в размер. «На прекрасной планете слышна». О!
Перечитываю: железобетон, а не стихи. Значит, годится.
Засим объявляется конкурс на лучшую рифму к слову «державы». Ржавый. Спасибо, не надо. Пижамы. Отцепись от меня! Пожары. Уже тепло. А что в четвертой? «Слышна»? Это полегче. Княжна нежна, мошна страшна. Времена, стремена, племена, семена, пламена, вымена – тьфу!
А ну-ка с разгону: «бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу пожары, бу-бу-бу-бу, на все времена, и могучая поступь державы…»
Тут, на самом патетическом месте, меня настигает сигнал бедствия. Чудище стоит в песочнице с подозрительно задумчивым видом. Бросаю тетрадку, лечу на помощь, успеваю высадить дите под кустик. Теперь бы снова замкнуть дочурку на песочницу и добить строфу.
Я перечитываю написанное и тихо матерюсь. Как не крути, а если могучая поступь слышна всей планете, это – землетрясение. Вздохнув, превращаю могучую поступь в мирную и снова топаю от печки: «бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу пожары, и отныне (молодец, Димочка!) на все времена будет мирная поступь державы на прекрасной планете слышна!»
Теперь осталось разобраться с пожарами, и строфа готова. Последним напряжением бровей рожаю катастрофическое «отгорели сражений пожары…» – и сажусь перечитывать написанное со шкодливым чувством безнаказанности: моей фамилии под этим ни в каком случае не будет, подпишусь, по месту жительства, Бескудниковым – и концы в воду. Настроение заметно улучшается.
Полпервого, пора и честь знать. Мы медленно шагаем к подъезду. Чудище крепко держит меня за палец. Дома, стараясь не замечать дыма коромыслом, я забрасываю канцпринадлежности в «дипломат».
– Ир, – напоминаю уже от дверей, – буду к шести.
Ирка кидает на меня прощальный взгляд, одновременно декламируя считалку, раздевая Чудище и принюхиваясь к запахам на кухне. Бедняга, как она со всем справляется? Мелькнув, этот вопрос исчезает без следа, едва я снова вылетаю на воздух. Теперь сначала получить деньги, потом в редакцию – и на телефонный узел. Вперед, вперед!
До метро из наших губерний ехать полчаса, надо провести их с пользой. Было бы нехудо, например, забацать еще одну строфу. Но, как ни тужусь, не могу вспомнить даже ту, что забацал утром. Помучавшись, выбрасываю белый флаг, тупо разглядываю расставленные вдоль шоссе натюрморты… Автобус трясет, и болит изнасилованная моя голова, и медленно ворочаются в ней культяпки мыслей – о протекающем кране, о телефоне и справке из ДЭЗа, о рублях, которые должен я и которые должны мне; вспоминаю, что так и не позвонил Косицкой.
Пашина смерть внезапно является мне в страшной своей ясности: вот я еду в автобусе, поручень холодит ладонь, за стеклом рыжий сентябрьский день – а его нет и никогда не будет больше.
К конечной я засыпаю и просыпаюсь только на улице от собственной неровной походки. Надо, черт возьми, когда-нибудь выспаться!
Институт, в котором я получаю свои аспирантские денежки, прячется в старом особнячке с аккуратной табличкой у модерновых дверей. Особнячок совсем маленький, но чтобы добраться до кассы, надо преодолеть несколько простых лестниц, одну винтовую и пяток коридоров самой прихотливой геометрии.
У окошка, разумеется, очередь – первый день выдачи. Делать нечего: становлюсь в хвост, вынимаю тетрадь и перечитываю четверостишие про мирную поступь. Острое желание схватить автора этой бредятины за грудки и долго бить об стену головой вспыхивает во мне. Потом вспоминаю, что автор– я, и всякое желание пропадает вообще. Понимаю, что дело худо, и возбудить себя на продолжение никакой поступи мне не удастся.
– Работаете? – с уважением интересуется вставшая позади полноватая дама, кажется, с немецкой кафедры. Я киваю, улыбаясь рассеянно, как и полагается художнику в минуты полета духа. Мгновение сатана подначивает меня показать этой специалистке по трубадурам, над чем я работаю – и посмотреть на выражение ее лица, но я подавляю искушение.
– Не буду мешать, – интеллигентно произносит дама и понимающе улыбается. Ну-ну…
Тут я вспоминаю, что еще не дозвонился Пепельникову и, застолбив место в очереди, бросаюсь бежать по коридорам. Через пару минут достигаю вахты.
Вахтерша на просьбу позвонить с казенного аппарата только что не рвется с цепи. Ладно, удавись ты у своих ключей, у меня двушка есть.
– Алло! Пепельникова будьте добры.
– Секундочку.
В трубке – веселый женский смех и сладкий баритон, на ходу досказывающий солененькое.
– Слушаю… – говорит наконец баритон, поигрывая в нижних регистрах.
– Это Скворешников. Здравствуй, Костя.
– А, Димочка. Привет-привет.
Разговаривает со мною Пепельников так, словно он артист оперетты, а я его поклонница и каждый день встречаю у дома с букетиком нарциссов. Между тем, мы всего лишь бывшие одноклассники.
– Я по поводу песни.
– Жду, Димочка («Почему Димочка?»). Жду с не-тер-пе-ни-ем.
Я почти вижу, как он подмигивает девочкам в персональном, обклеенном собственными афишами кабинете.
– Послезавтра тебя устроит? – спрашиваю.
– Крайний срок, Димочка, – снисходит он после паузы.
– В общем-то, почти все готово, – говорю. – Но хотелось бы еще поработать…
Черт возьми, чего я расшаркиваюсь!
– Поработай, – снова снисходит постановщик юбилейных концертов, и мы прощаемся.
На душе гадко. После пепельниковского баритона хочется вымыть уши. И вообще – получу двести рэ (тьфу-тьфу!), и больше на эти кисельные берега – ни ногой!
– Спасибо, – осклабляюсь я вахтерше, и под глухое рычание в спину бегом начинаю третье за день восхождение – у нас хоть и доцентура, Веймар и «озерная школа», а пропустишь очередь – простоишь второй раз как миленький!
Успеваю впритык – хорошо хоть бежал не зря – и с нежнейшей улыбкой всовываю голову в амбразуру. Никому не улыбаются так, как кассиру вдень выдачи. Расписываюсь, отхожу, чтобы запихнуть бумажки в кошелек, – и попадаюсь. Тонкий знаток Джона Рида, доцент Копылова вцепляется в мой локоть железной лапкой и не отпускает до тех пор, пока я не перекладываю из ее сумы в свой «дипломат» увесистую папку – на рецензирование. А куда прикажете деваться? Доцент Копылова проедает плешь за пять минут, это проверено. Отобьешься – проест ее твоему научному руководителю, завкафедрой, далее везде. Лучше не связываться.
«Очень срочно». А папочка – кило на полтора!
Ладно, черт с ней; теперь – в редакцию!
Но не тут-то было: на винтовой лестнице в мой локоть опять вцепляются. Прошу любить: наша профсоюзная жрица, Тинатина Константиновна. Эта могла бы и не вцепляться: при ее комплекции разминуться с ней на винтовой лестнице невозможно.
Здравствуйте, Тинатина Константиновна. Почему не бываю на семинарах политпросвещения? Так я же газеты читаю, первоисточники регулярно… Недавно ехал в метро рядом с Сейфуль-Мулюковым. Тинатина Константиновна, драгоценная, ребенок у меня – ма-аленький такой ребенок, а работы – мно-ого… Завтра в Дом дружбы? А почему я? Знаете, я, может быть, не смогу, я занят, у меня… Вы что, какое поручение? Зачем? Да постойте же!
Тинатина удивительно легко для ее весовой категории завинчивается наверх, а я, постояв, свинчиваюсь вниз в самом отвратительном настроении. Везунок, а? За пять минут влипнуть в две работы! Не пойду я ни в какой Дом дружбы – со мной скоро собственная жена дружить перестанет…
Ну ничего. Зато…
Зато я везу в редакцию довесок переводов, и это только повод для визита. А тайная сладость его в том, что у них давно лежит подборка моих переводов, и недели две назад ушла подборочка наверх…
Ознакомительная версия.