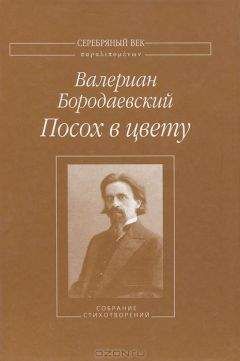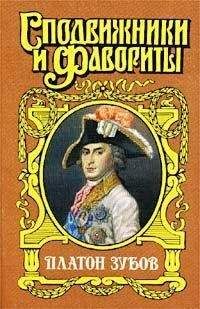Политический гений умирающего Генриха Штауфена выбрал Иннокентия III опекуном его малолетнему наследнику. Подобно Лисимаху, заткнувшему свою рану диадемой, Иннокентий III думал возвышением Фридриха уничтожить угрозу, нависшую над римскими рубежами в лице императора Оттона, и, на свое счастье, не дожил до времени, когда патримоний св. Петра, замкнутый между владениями Штауфена, оказался в положении Девкалиона, видящего, что вода вокруг него не останавливается, и могущего обращать мольбы лишь к престолу прогневленного Громовержца. Обещание быть крестоносцем, звучавшее на обеих коронациях Фридриха и ставшее предметом его сожалений в более поздние годы, много лет служило папам, не дававшим этому орудию быть подолгу праздным. Заболевший в предпринятом наконец плавании, Фридрих не смог довершить его и лишь в следующем году вступил в Святую землю, неся на себе отлучение, наложенное Григорием IX, которому оправдания императора показались недостаточными. Военным орденам Палестины было приказано не иметь с ним дела; духовенство равным образом отстранилось от его предприятий; Фридрих вошел в Иерусалим, справив победу над христианами и обстоятельствами, и пока госпитальеры осведомляли султана о легкости, с какою можно было бы убить императора на иорданских берегах, султан возвращал ему Иерусалим с Вифлеемом и Назаретом и уступал латинянам право жить в городе и укреплять его.
Отвлекаясь от бранных полей, Фридрих искал более прочной и отрадной славы. Конституции, составленные в замке Мельфи, были призваны обновить прежний порядок, ветшающий от времени и небрежения. Провозглашенное в них божественное право монарха означало, что сей последний присутствует во всем и что его суждения непререкаемы. Продажа фьефов была запрещена; на всех вассалов распространены королевские налоги; носить оружие стало возможно только по особому разрешению. Постоянное войско, набранное из сарацин, избавляло короля от нужды созывать баронов, силу часто ненадежную и всегда требовательную, и раздражать напоминанием о феодальных обязанностях людей, все более стесняемых в их феодальной вольности. Клир, лишенный права судить еретиков, сам подвергся светскому суду; общее законодательство распространилось на города, отняв у них самоуправление и вверив их жизнь распоряжению королевского чиновника. Своих доверенных людей Фридрих любил возвышать из брения: опасаясь привлекать к государственной службе самолюбивую знать, он справедливо видел в ней тучное поле, на котором сеются и возрастают драконьи зубы мятежа. Тягостная и изощренная система налогов, государственная монополия на шелк, железо и зерно не могли не вызывать сильного недовольства; но твердая валюта, установленное единообразие мер и весов и отмена пошлин на внутреннюю торговлю были благом, редким в Европе, а провозглашенное равенство всех жителей королевства перед законом довершило славу законодателя, которую Фридрих любил облекать античными драпировками. Победив миланцев при Кортенуове, Фридрих не устоял перед возможностью отплатить наследственные обиды и вступил триумфатором в Кремону; подобно Диоклетиану и Аврелиану, торжествующим над сильными врагами, он вывел в своей процессии слона, влекшего по городским улицам захваченную у неприятеля знаменную колесницу. Но подземные вихри зыбили его триумфальную арку. Едва новые законы начали действовать, провозглашенное на весь мир торжество политической мудрости омрачилось восстаниями Сиракуз и Мессины, подавленными с ужасающей жестокостью и показавшими, что за кулисами этой театральной феерии скрываются не только движущие ею славолюбие и тщеславие, но также труды и муки людей, способных заявить о своем недовольстве лишь ценою своей гибели.
Двор был зеркалом, отражающим и множащим славу государя. Двинувшись в Германию, дабы усмирить своего мятежного сына, Фридрих предстал изумленным глазам швабских и франконских баронов, словно Вакх, шествующий по Индии, среди леопардов и верблюдов, под охраной эфиопов и сарацин, в восточной пышности и блеске пурпура и самоцветов. Он прочел Платона и пленился славой философа на троне. Христианские, арабские, еврейские учители спорили перед ним; он с любопытством углублялся в учение Аверроэса и дал у себя приют детям Комментатора; он поддерживал дружбу с никейским императором и получал от него греческие рукописи. Равнодушный к философскому изображению нравов и страстей человечества, к опровержению общих предрассудков и исследованию их могущества, он спрашивал мусульманского мудреца Ибн-Сабина о вечности мира, целях богословия и бессмертии души и благодарно принимал от него письма с надменными поучениями. Школы, издавна существовавшие в Неаполе, он преобразовал и возвысил до университета, однако стеснил своих подданных запретом учиться в иных местах и думал даже уничтожить Болонский университет, чтобы избавить свое создание от совместников. Он щедро награждал людей, искусных в ремеслах, и привлекал к своему двору музыкантов, рассказчиков, фокусников и всех тех, кто мог удивить или развлечь его взыскательное внимание. Считая Геликон не менее достойным владением, чем Ломбардия, он побуждал придворных к сочинению стихов и сам подавал им пример. Королевские судьи и нотариусы слагали канцоны и сонеты, где разбирали свои чувства и домогались благосклонности возлюбленной со всей точностью в дистинкциях, привитой юристу, и с учтивой настойчивостью дипломата. Выбор провансальской поэзии в качестве образца делает честь их вкусу и смелости, а умение выдержать спор с сим блестящим и опасным образцом было причиною, что всякое стихотворение, написанное их преемниками на народном языке, стали называть сицилийским. При длительной осаде Фаэнцы Фридрих коротал время за сочинением трактата о соколиной охоте: это занятие давало ему возможность снова переживать радости любимой забавы, описывая ее, и утоляло честолюбивое стремление опровергать Аристотеля, следуя за его мнениями. Он ценил астрологию как из общего для своей эпохи суеверия, так и из потребности видеть свои дела начертанными на небе; Михаил Скот, славный математик и алхимик, был одним из его ближайших советников. Чрезмерный поклонник своего гения, Фридрих заставил своих современников, волею или неволею, разделить это поклонение.
Я сидел, слушая все обыкновенные признаки случайного ночлега — то нестройный и жалобный лай собаки на дворе, то плач младенца в зыбке — когда хозяин принес мне ужин: говядину жареную, яйца, булки и зеленый чай; сверх того, предлагал мне табаку весьма хорошего, который сохраняется у него от происшествий военного времени в сафьянном мешке, от чего, впрочем, я отказался. Он был необыкновенно услужлив. Безжалостность, с какою он встретил мое появление, тем объяснялась, что от нашествия невиданных гостей он потерял совсем голову; меж тем мои слова о важных поручениях, с какими я путешествую, заронили в него опасение, что я могу сильно ему повредить, и он явился тронуть меня невзгодами своего жребия. Жалобы его на непрочный промысел, на отягчительную аренду, на высокомерие панов были горькие. Доход его весьма зависел от христианского прилежания окрестных жителей, стекавшихся в здешний храм на праздники, в коих мой корчмарь выказал глубокую осведомленность: он с горячностью отзывался о святой Урсуле и одиннадцати тысячах девственниц, чья память совершается с похвалами и небольшою ярмаркой, и сильно порицал св. Юлиана Толедского, не умевшего вызвать уважение поселян. Корчмарь сказывал, что языки клеветников виною, что проезжие бывают предварены о его заведении невыгодно и он имеет много огорчений от путешественников, вообще грубых в повадке, да вдобавок ожесточенных по своей должности; что я, однако, могу теперь видеть, где истина, и т. д. Чтобы его успокоить, я поклялся на чашке зеленого чаю, которую в ту минуту держал, что не сделаю ему ничего дурного, и он ободрился до того, что приступил ко мне с просьбою: думая просить для своей корчмы залогу, то есть солдат, оставляемых с письменным видом для предохранения жителей от насильств, — а если не удастся, то хотя бы охранительный лист — он хотел, чтобы я вызнал для него, пойдет ли батальон, стоящий нынче на фольварке, и далее с графом, когда он тронется в путь, или же останется здесь. Не успел я разуверить его в своей влиятельности, как крик со двора возвестил о новом прибытии. Еврей тотчас выбежал. Из любопытства и я пошел поглядеть на проезжего. Подле кибитки, похожей на мою и так же, верно, купленной лет десять тому за четыре рубля с полтиной, я разглядел стоявшего человека, над коим уже прозвучал неумолимый приговор корчмаря. Усталость и уныние были в нем явственны даже для непроницательного взора; платье на нем, сколько я мог судить, оплакивало крупными слезами его решение ехать через мост. Еврей советовал ему попытать счастья в ближайших мещанских домах — иначе ему настояло ехать на фольварк, до которого считалось две легкие мили, — однако не стучаться в первый же на дороге дом, поскольку его хозяин, хотя и честный ремесленник, недавно повредился в разуме и там никому ночлега не дают. С этими словами еврей пошел обратно в дом, хладнокровно предоставив запоздалому гостю сетовать на свою неудачу. Мне захотелось поговорить с ним: я назвал свое имя, утаив, что занял последнюю комнату; мы сочлись знакомцами, их нашлось много. Он открыл мне, что едет с одним поручением в корпус Ферзена, надеясь найти победителя Костюшки соединившегося с Суворовым, и что разбитие Сераковского и дело при Мацевичах укрепляют нас в надежде кончить кампанию еще прежде нового года. Я пожелал ему сыскать ночлег счастливо, и мы простились. Встретив еврея подле моей комнаты, я спросил, от чего помешался в рассудке тот несчастный, коего он упоминал. Еврей отвечал, важно качая головою, что это очень печальная история, и поведал мне ее, как я поведаю Вам. — Один богатый пан, из тех, что содержат сад с фазанами, на всех мебелях вырезывают свои гербы, ездят с гайдуками и в карете на пасах, а при подъезде к местечку трубят в рога и стреляют в воздух, минувшею весною, видя кругом военные внезапности и будучи озабочен судьбою своего имения, замыслил схоронить все, что было у него в доме ценного, на одной поляне в глухом лесу. Доверенные люди из его прислуги по ночам перетаскивали туда серебро, бронзы, картины; под древесной сенью был поставлен шалаш, вход которого украшался двумя мраморными фавнами, и в нем ночевал лесничий с заряженным ружьем. Однажды понадобилось послать срочные вести лесничему; под рукою у пана оказался бедный шорник: пан приказал ему — тот не смел ослушаться. Час был поздний; туман тянулся меж стволами, тропа терялась; терновник хватал его за платье, таинственные звуки за спиною его слышались; с замирающим сердцем вышел посланец на край опушки, против веницейского зеркала, поставленного под дубом; месяц на миг открылся и показал шорнику его бледное отражение во тьме дубравной — тут его разум и не стерпел. Шорник проблуждал в лесу всю ночь и на рассвете добрался до дому; жена, истомившаяся страхами, бросилась к нему: он смеялся и на все указывал пальцем. — Дальнейшую его историю, тяготы и отчаяние его семьи представьте себе сами. Кто-то сказал, что войну рождают отношения не между людьми, а между вещами; о том судить я оставляю тем, кто умнее меня, а сам повторю только, что война сладка тому, кто ее не пробовал. Тут пришло мне в голову спросить у еврея, знает ли он о битве, в которой граф лишился ноги. Он рассказал мне обстоятельства этого дела, как сам о них слышал от графской челяди. Корпус Дерфельдена нагнал польский арьергард, переправляющийся через Буг. Поляки ломали мост; их орудия с того берега не давали нашим войскам сему препятствовать. Граф был на берегу с Софийским карабинерным полком. Полковник Рарок со своими гренадерами прискакал к графу, увещевая всех разъехаться, ибо неприятель, видя генерала, окруженного свитою, непременно станет по нему стрелять. В эту минуту ударившее ядро оторвало у графа левую ногу, а у Рарока правую, и сей выстрел был от поляков последний. Графа отнесли в лощину, и собравшиеся медики занялись его ногою; Рарок оставался без помощи, пока не распорядились перенести его в соседнюю деревню, в господский дом, где он на другой день и умер. Оставя батальон егерский при графе, прочие войска выступили на соединение с армией Суворова; а ежели вызнать у начальства на фольварке... — Тут еврея кликнули на графскую половину, и он покинул меня с моими праздными мыслями.