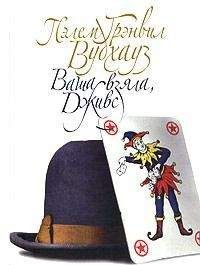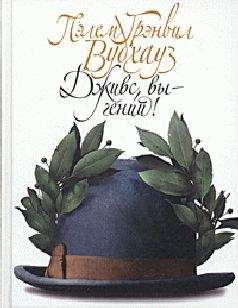– Вам этот костюм не нравится, Дживс? – холодно осведомился я.
– Отнюдь, сэр.
– Чем же он вас не устраивает?
– Превосходный костюм, сэр.
– Тогда в чем дело? Выкладывайте, черт возьми!
– Если позволительно предложить, сэр, гладкий коричневый или синий, может быть, в самый умеренный рубчик…
– Какая полнейшая чушь!
– Очень хорошо, сэр.
– Совершеннейший идиотизм, дорогой мой!
– Как скажете, сэр.
У меня возникло такое чувство, будто сделал шаг вверх по лестнице, а ступеньки уже кончились. Я был полон, так сказать, воинственного задора, но воевать, получается, не с чем.
– Ну, тогда ладно, – сказал я.
– Да, сэр.
И он отправился складывать свое хозяйство, а я вновь обратился к «Типам этических категорий» и решил попробовать силы на главе «Идиопсихологическая этика».
Почти всю дорогу в поезде я ломал голову над тем, что могло случиться. Совершенно непонятно! «Уютное» вовсе не тот одинокий загородный дом из дамских романов, куда заманивают юных дев якобы для игры в баккара, а вместо этого обдирают с них догола все драгоценности и так далее. Когда я уезжал, там собралась теплая компания мирных граждан вроде меня. Да дядя никогда бы и не допустил у себя в доме ничего другого. Он довольно чопорный старый педант и любит, чтобы жизнь шла тихо. В то лето он как раз кончал писать не то свою родословную, не то еще что-то в том же духе и почти безвылазно сидел в библиотеке. Его примером наглядно подтверждается то мудрое житейское правило, что всегда лучше перебеситься смолоду. Я слышал, что в молодью годы дядя Уиллоуби был греховодник, каких мало. А теперь на него посмотреть -нипочем не скажешь.
Когда я вошел в дом, Оукшотт, дворецкий, сообщил мне, что Флоренс у себя в комнате – надзирает за тем, как горничная складывает вещи. Оказывается, вечером должен был состояться бал в одной усадьбе милях в двадцати по соседству и Флоренс в компании еще кое с кем из гостей отправляется туда с несколькими ночевками. Оукшотту она велела, по его словам, уведомить ее, как только я вернусь. По этому случаю я пока что забрался в курительную комнату и стал ждать. Вскоре она является. С одного взгляда мне стало ясно, что она вся в волнении, даже, может быть, в сердцах. Глаза на лбу, и вообще весь вид выражает крайнее раздражение.
– Дорогая, – говорю и готов уже, как заведено, заключить ее в объятия.
Но она увернулась с ловкостью боксера легкого веса.
– Оставьте.
– Что случилось?
– Все случилось! Берти, помните, вы перед отъездом просили, чтобы я постаралась завоевать расположение вашего дяди?
– Да.
Это я в том смысле, что, поскольку я в общем и целом пока еще нахожусь от него в некоторой материальной зависимости, не может быть и речи о том, чтобы жениться без его согласия. И хотя ожидать от дяди Уиллоуби возражений против Флоренс у меня не было причин: они с ее отцом еще в Оксфорде вместе учились, – однако в таком деле все-таки лучше не рисковать. Вот я и сказал, чтобы она постаралась обаять старика.
– Вы сказали, что он особенно обрадуется, если попросить, чтобы он почитал мне кусок из своей родословной.
– А он что, не обрадовался?
– Пришел в восторг. Он как раз вчера после обеда дописал последнюю фразу и весь вечер читал вслух, с начала и чуть не до самого конца. Возмутительное сочинение. Скандальное. Ужас какой-то!
– Но, черт подери, наше семейство не такое уж и плохое, мне кажется.
– Это вовсе не родословная. А всего лишь мемуары. И называются «Воспоминания долгой жизни».
Тут я начал понимать, в чем дело. Дядя Уиллоуби, как я уже говорил, вел в молодости жизнь довольно разгульную, так что, предавшись воспоминаниям, он вполне мог выволочь на свет Божий немало разных пикантных подробностей.
– Если хоть половина из того, что там написано, – правда, -продолжала Флоренс, – значит, юность вашего дяди была… ну просто нет слов. Вчера он только раскрыл рукопись и сразу же попал на скандальную историю про то, как в тысяча восемьсот восемьдесят седьмом году его и моего папочку вышвырнули из мюзик-холла!
– За что?
– Я решительно отказываюсь вам объяснить. И вправду, должно быть, что-то из рук вон. В 1887 году так просто из мюзик-холлов не вышвыривали.
– Ваш дядя черным по белому пишет, что мой папочка начал вечер с того, что выпил полторы кварты шампанского, – продолжала возмущаться Флоренс. -И таких историй в его сочинении множество. Там рассказывается один безобразный случай с лордом Эмсвортом…
– С лордом Эмсвортом? Тем самым, что сейчас гнездится в Бландинге?
Это один такой всем хорошо известный старый гриб, сама добродетель, с утра до ночи ковыряет цапкой у себя в саду.
– Именно. Вот почему сочинение вашего дяди – такая гадость. В нем рассказывается обо всех людях, которых хорошо знаешь, которые сегодня являются воплощением корректности. Выходит, что все они в Лондоне восьмидесятых годов имели такие манеры, каких не потерпели бы и в кубрике самого грязного китобойца. Ваш дядя помнит все постыдные поступки всех знакомых в двадцать лет. Например, он описывает один случай с сэром Стэнли Джервас-Джервасом в «Рошервил-Гарденс», с такими ужасными подробностями, оказывается, сэр Стэнли… нет, не могу вам этого пересказать.
– А вы попробуйте.
– Ни за что!
– Да ладно, что вы волнуетесь? Если в этой книге столько смака, ее ни один издатель не напечатает.
– Ошибаетесь. Ваш дядя сказал, что обо всем договорился с издательством «Риггз и Баллинджер» и завтра с утра отсылает им рукопись для немедленной публикации. Они специализируются на таких книгах. Выпустили мемуары леди Карнаби «Восемьдесят интересных лет».
– О, это я читал.
– Тогда, если я скажу, что мемуары леди Карнаби просто детский лепет в сравнении с воспоминаниями ваше го дяди, вы меня поймете. И что ни страница, упоминается имя папочки. Его поведение в молодые годы приводит меня в отчаяние!
– Ну и что же делать?
– Надо перехватить рукопись, прежде чем она уйдет к «Риггзу и Баллинджеру». И уничтожить.
Я чуть не вскочил. Вот это да! Учинить такую шутку – это по-нашему.
– И как вы думаете это проделать?
– При чем тут я? Ведь пакет уйдет завтра утром. А сегодня вечером уезжаю на бал к Мергатройдам и буду обратно только в понедельник. Это должны сделать вы. Я потому вам и телеграфировала.
– Что-о?
Она холодно посмотрела на меня.
– Вы что, отказываетесь мне помочь, Берти?
– Н-нет, но… Послушайте!
– Это ведь совсем просто.
– Но даже если я… То есть, я хочу сказать… Разумеется, все, что в моих силах… Вы меня понимаете…
– Берти! Вы утверждали, что хотите на мне жениться.
– Конечно, но все-таки…
На минуту она превратилась в совершенное подобие своего папаши.
– Я никогда не выйду за вас, если эти воспоминания увидят свет.
– Но, Флоренс, старушка…
– И не спорьте. Считайте, что это вам испытание, Берти. Если у вас достанет отваги и находчивости осуществить этот замысел, я получу доказательство того, что вы вовсе не такой лоботряс и тупица, каким вас считают многие. А если вы этого не сделаете, я буду знать, что ваша тетя Агата была совершенно права, когда называла вас бесхребетным, беспозвоночным и решительно не советовала выходить за вас замуж. Перехватить рукопись, Берти, для вас не составит труда. Нужно только немного решительности.
– А вдруг дядя Уиллоуби меня застукает? Он же не даст мне больше ни шиллинга.
– Ну, если вам дядины деньги дороже, чем я…
– Да нет же! Что вы!
– Вот и прекрасно. Пакет с рукописью будет положен завтра утром на стол в холле, чтобы Оукшотт отвез его в деревню на почту вместе со всеми письмами. От вас требуется только взять его со стола, унести и уничтожить. А дядя будет считать, что пакет затерялся при пересылке.
Мне это показалось довольно малоубедительным.
– А разве у него нет копии?
– Нет. Рукопись на машинке не перепечатана. Он шлет то, что написал от руки.
– Но ведь он может написать все заново.
– Это чересчур большая работа.
– Но…
– Берти, если вы намерены ничего не делать, а будете только выдвигать свои дурацкие возражения…
– Просто я хочу вам заметить, что…
– Не надо, пожалуйста. Отвечайте: да или нет. Вы согласны выполнить эту небольшую просьбу? Сделать для меня одно доброе дело?
То, как она это выразила, сразу натолкнуло меня на ценную мысль.
– Почему бы не поручить это Эдвину? Ограничиться, так сказать, семейным кругом. И к тому же порадовать дитя.
Мысль, на мой взгляд, была просто блестящая. Эдвин – ее младший брат, проводивший каникулы в «Уютном». Эдакий малец с хорьковатой мордочкой, которого я терпеть не мог с самого его рождения. Кстати о мемуарах, это он, чертов малютка Эдвин, девять лет назад привел своего папашу туда, где я курил сигару, и навлек на меня тогда кучу неприятностей. Теперь ему сровнялось четырнадцать, и он недавно вступил в бойскауты. Это был необыкновенно серьезный ребенок, к своим новым обязанностям относившийся очень ответственно. Он постоянно пребывал в нервной лихорадке, так как отставал от расписания ежедневных добрых дел: прямо из кожи вон лез и все-таки не управлялся. Он часами рыскал по дому, носился наперегонки с самим собой, превращая усадьбу в истинный ад для людей и животных.