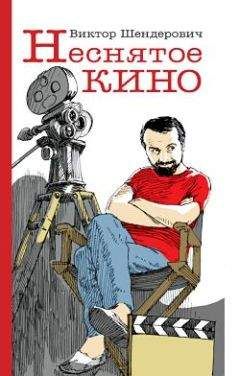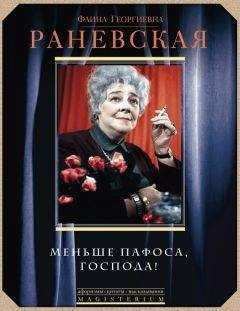– Господи, ну и рожа, – с полным ртом сказал Шленский.
– Жуть, – согласился Деветьяров. – Не подавись только.
– Ужас как жрать охота, – оправдался Шленский. – С утра ничего не ел.
– А меньше надо дурью маяться, – сказал Деветьяров. – Мисс фото, бля. «Зо-олушки…»
Шленский всхрюкнул от смеха. Через секунду оба хохотали, как ненормальные.
– Потише, молодые люди! – недовольно поморщилась буфетчица. – Не слышно же!..
– Извините, – сдавленным голосом сказал Шленский. – Мы больше так не будем.
– Никогда! – поклялся Деветьяров, и они снова заржали.
– Вот безобразие! – воскликнула буфетчица. – Уходите отсюда! Дайте послушать!
– Все, все… Мы тихо.
– Женская красота делает нас чище и благороднее, – сказал в телевизоре Роман Юрьевич.
– Все-таки зря я его не ударил, – посетовал Деветьяров.
– Зря, – согласился Шленский. – Тебя бы посадили, а гонорар – мне.
– Ага, – сказал Деветьяров. – Вспомнил!
– Заплатят как миленькие! – неуверенно пригрозил телевизору Шленский.
– И вот настал исторический момент… – говорил Р.Ю. в телевизоре.
– Идем отсюда, а то меня стошнит, – попросил Деветьяров.
– В ресторан! – сообразил Шленский. – Там небось уже накрыли.
– Точно, – согласился Деветьяров. – Последняя халява – это святое! Да скорее, а то сейчас все рванут…
Их уже не было в буфете, когда в телевизоре под фанфары было произнесено имя победительницы, и Лаврушина, умело сыграв радостное изумление, закрывала лицо руками…
Буфетчица, задрав голову к телевизору, умиленно смотрела на эту сказку.
Они стучали в дверь, тыкали в стекло театральными удостоверениями и программками шоу, но в ресторан их не пустили.
– Читайте! – Пьяноватый дядька постучал пальцем по табличке «Закрыто на спецобслуживание».
– Да это мы и есть! – возопил Шленский. – Вот, вот, видите: Шленский. Это я! А это – Деветьяров!
– Ладно! Хрен с ихним банкетом! – не выдержал Андрей.
Он отодвинул товарища по несчастью и что-то зашептал дядьке в ухо, одновременно всовывая ему в руку бумажку. Через минуту дядька с поклоном нес им бутылку «белой», два стакана и несколько ломтей хлеба с колбасой.
Они поднялись на пролет лестницы и пристроились на площадке второго этажа, в пыльном «аппендиксе», куда в этот поздний час не ступала нога человека.
– «Славянский базар»… – скептически заметил Шленский, оглядывая обстановочку.
– Перебьешься, – рассмеялся Деветьяров, отрывая крышку с горлышка. – Извини. Ну! – Он налил в стаканы. – За что пьем?
– За них, – сказал Шленский.
– Дурак ты, – нежно сказал Деветьяров.
В первом часу ночи в ресторане Дома актера еще продолжался прощальный банкет в честь завершения первого в СССР конкурса фотомоделей «Бон шанс». Изящные, в вечерних платьях, они сидели в окружении спонсоров и менеджеров.
Кузнецова, улыбаясь кавалерам, ранеными глазами посматривала на входную дверь, но в нее входили не те…
Не видимые никем в ресторане, Шленский и Деветьяров стояли за ресторанным стеклом. Шел дождь, по стеклу скатывались капли.
– Пошли! – сказал Андрей. – Метро закроют.
Летели дни, месяцы, годы. И словно кто-то невидимый щелкал затвором фотоаппарата:
– Шленский на репетиции в театре;
– зимой с какой-то женщиной, в скверике возле ГИТИСа;
– и осенью, покупающий в «Детском мире» коляску;
– и весной, стоящий у окошка молочной кухни;
– и снова в институте;
– и стоящий в очереди в булочной;
– и сидящий в библиотеке;
– и спящий в метро;
– и бегущий по незаметно изменившимся вместе с ним улицам…
Очередь в «Макдоналдс», обогнув сквер, тянулась вдоль бульвара. Машины, пробивая пробку, переползали перекресток. Таял снег, светило солнце.
У пешеходного перехода среди других маялся Шленский. Он не то чтобы постарел – но время, пролетая, коснулось и его своим крылом: наш герой погрузнел, в шевелюре наметились залысины и глаза его, напряженно уставленные в светофор, были глазами вечно не успевающего человека.
Наконец зажегся зеленый, и Шленский почти побежал на ту сторону дороги, мимо мягко причалившей к тротуару «вольво», из которой уже выходила девушка в короткой лисьей шубке и сапожках.
Почти миновав ее, Шленский перешел на шаг и обернулся. Девушка хлопнула дверцей и увидела уставившегося на нее человека в нелепой куртке. Лицо ее сложилось было в привычную гримаску, но вдруг стало человеческим.
– Лена? – спросил человек.
– Леонид Михайлович, – сказала Кузнецова. – Вы?
– Я, – сказал Шленский. – Кузнецова. С ума сойти.
– Господи. Леонид Михайлович…
– Елена Николаевна! – Из «вольво» выглянул сидевший за рулем мужчина. – Какие-нибудь проблемы?
– Никаких проблем, Леша, – ответила она. – Все нормально.
Мужчина коротким взглядом оценил Шленского:
– Когда за вами заехать?
– В половине пятого, – ответила ему Кузнецова. – Домой.
– Хорошо.
Еще раз бросив короткий взгляд на Шленского, шофер хлопнул дверцей, и «вольво» бесшумно укатила дальше по Тверской.
– Смотри, какая ты стала… – заметил Шленский.
– Какая?
– Другая, – ответил он.
– Вы тоже, – сказала она. И, словно оправдываясь, добавила: – Четыре года прошло…
– Да, почти четыре, – согласился Шленский. – Черт их возьми совсем. – Он усмехнулся, они рассмеялись, но смех получился какой-то нервный. – Ну, где ты, как ты? – пожалуй, чересчур весело спросил он.
– Я в порядке, – коротко ответила она.
– Вижу, – сказал он. – Очень рад за тебя. – И добавил: – Правда.
– Спасибо.
Они помолчали.
– А я в театре, – сказал он, хотя она об этом и не спрашивала. – Вот. Скоро премьера.
– Поздравляю.
– Да не с чем поздравлять, – поморщился он. – Я очень рад тебя видеть, – сказал он.
– Я тоже, – сказал она.
– Надо же, встретились, – неестественно рассмеялся он. – Как мир тесен, а?
– Нет, Леонид Михайлович. – Она покачала головой. – Не тесен.
– Ну да. – Он быстро взглянул ей в глаза. – Слушай, Елена Николаевна, сегодня у меня работа, а вот что ты делаешь завтра?
– Я занята, – сказала она.
– А в субботу?
– Я занята, Леонид Михайлович, – ответила она. – И в субботу, и дальше.
– Жаль, – сказал Шленский.
– И мне, – сказала она.
Толпа обтекала их.
У перехода звонко кричал какой-то паренек:
– Астрологический календарь! Узнайте вашу судьбу!
За спиной у Кузнецовой на фоне весеннего неба чернело пепелище Дома актера.
Они еще помолчали.
– Ну! – Шленский улыбнулся. – Будь здоров, Нижнеудинск!
Он шагнул к ней. Она протянула руку, и Шленский неловко потряс эту руку в своей.
– Я побежал, – сказал он и поцеловал ее в подставленную щеку.
На секунду они замерли, прижавшись друг к другу лицами, потом, как магниты, разведенные внешней силой, снова оказались стоящими врозь.
– Может, еще встретимся, – сказал Шленский.
Она ничего не ответила.
– Узнайте свою судьбу! – орал паренек у перехода.
Вокруг шумела Пушкинская площадь.
Над кинотеатром плыл в небе рекламный аэростат, на брандмауэре красовался огромный портрет артиста Деветьярова в премьере нового кино.
Сквозь пустые глазницы окон сгоревшего Дома актера светилось голубым безоблачное весеннее небо.
1992
Уже не помню, как назывался тот конкурс киносценариев, но помню, что в задании фигурировали связи России и Америки – время было раннедемократическое, и на несколько лет, по высочайшему недосмотру, Штаты перестали быть нам врагами.
И вот мы с моим другом Михаилом Чумаченко (см. о нем подробнее на стр. 71), сидючи в какой-то кафешке, что называется, трындели на тему: не попробовать ли нам, под это дело (то бишь под конкурс) что-нибудь еще сочинить? Потрындели, ничего не придумали и разошлись по своим делам – он в ГИТИС, я в «Московские новости».
А вечером Мишка позвонил и сказал:
– Эдгар По!
Я спросил:
– Что Эдгар По?
– Эдгар По жил в России, – сказал Мишка.
А пили мы с ним вроде кофе, и когда Чумаченко успел наклюкаться до таких открытий, я не понял. Но Мишка настаивал на своем и, как выяснилось, был прав! Как минимум отчасти.
Наутро я погрузился в специальную литературу и обнаружил: в автобиографии великого американца действительно была запись о двух годах жизни в России! Якобы в совсем юном возрасте он жил в Петербурге.
Это, разумеется, было мистификацией.
В 1827 году Эдгар По сгоряча записался в солдаты. И, вскорости выкупленный из найма отчимом, решил, видимо, сжечь эту стыдную страницу своей жизни, а пепел развеять, чтобы не осталось и следа.
Так в его автобиографии появился Санкт-Петербург. В те времена для Америки сие было как путешествие на Марс. Великий мистик и мистификатор полагал, должно быть, что этого никто никогда не сможет проверить и опровергнуть.