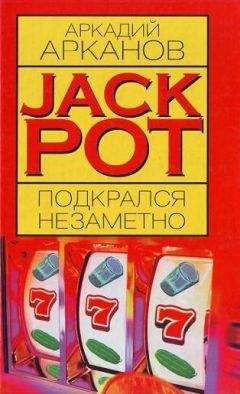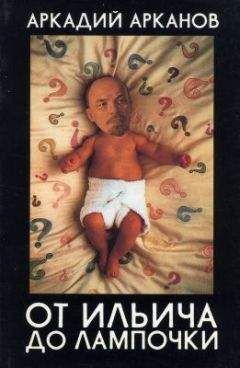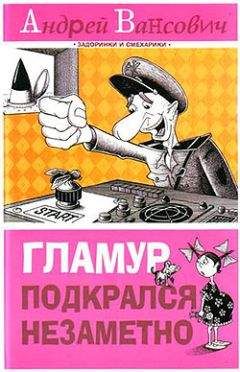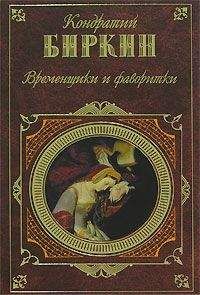И тогда Первый ревзод велел поставить шута на ноги и привести в чувство ударом бамбуковой жерди. Нет, не праздное любопытство заставляет Первого ревзода терпеливо сносить дурацкие выходки, а единственное желание выдрать с корнем ядовитый сорняк и растоптать, чтобы никогда вредоносные семена не попали в благородную почву. И ты, шут, неведомо почему оказавшийся в услужении у выродка, искупишь свой грех перед страной и мадрантом, указав нам убежище Ферруго. И Первый ревзод обещает тебе, а Первый ревзод не бросает слов на ветер, что остаток своих дней — ведь ты не так уж и стар — ты проведешь в почете, богатстве и славе. Десять самых лучших женщин будут отданы тебе в жены, чтобы ласкать твои уши небесным песнопением, щекотать твои ноздри зовущими запахами, услаждать твою плоть бархатными телами, если ты назовешь нам Ферруго…
Удары посыпались один за другим. Плесните на него водой, и пусть встанет и внимательно посмотрит с этого холма на город. Где? В какой стороне Ферруго?..
Протри лицо шуту, Первый ревзод, слезы умиления застилают ему глаза… Сухой белой тканью шуту вытерли лицо, и, глядя на раскинувшийся внизу город, он протянул руку в направлении востока… Там Ферруго!.. Потом — в направлении юга… Нет, там Ферруго!.. Или не там… А может быть, там?..
У бедняги испортилось зрение? Стали плохо видеть его зеленые глаза? Так прогрейте ему очи! После этого он наверняка сможет разглядеть, где Ферруго!
Голову шута запрокинули так, чтобы стоявшее в центре неба солнце било прямо в глаза, веки его растянули вверх и вниз, и раскаленное светило стало опускаться все ниже и ниже… Все жарче, все горячее… Вот оно уже закрывает небо и начинает выливаться в глазницы, и заполняет череп, и вытекает через уши, обжигая лицо, шею и плечи… И вдруг погасло, и наступила тьма. Тьма была и после того, как шута привели в сознание. Он облизнул сухие губы… Тьма, сплошная тьма, Первый ревзод! Как возможно в такой кромешной ночи отыскать Ферруго!.. И шут попытался улыбнуться.
Первый ревзод дал знак дворцовому палачу Басстио… А может быть, шут напряжет свой слух и в шуме города различит шаги Ферруго или распознает его голос, разносящий собачьи творения?..
Чья-то рука легла шуту на плечо, и он узнал знакомую шершавую ладонь палача Басстио.
Шут-шутище! Это я, Басстио, твой старый друг. Ну что тебе дался какой-то Ферруго? Я же не хочу делать тебе больно, но я не могу ослушаться Первого ревзода… Шут-шутище! Я же хочу, чтобы все было хорошо. Я хочу болтать с тобой по вечерам и слушать твои смешные истории, после которых легче становится палачу Басстио… Шут-шутище! Еще не поздно. Да пусть Первый ревзод подавится этим Ферруго! Неужели ты не слышишь, что говорит тебе твой старый друг Басстио?.. Шут-шутище! Он приказывает… Ну что тебе стоит?.. Прости меня, шут… И дворцовый палач Басстио отсек шуту оба уха.
Первый ревзод терпеливо ждал, пока шута приводили в чувство.
Дворцовый палач Басстио плакал, опершись о топор.
Шут подполз к Басстио и прислонился спиной к его ноге, чтобы можно было сидеть… С этого бы и начинал, Первый ревзод, а не с каких-то нелепых, лживых обещаний… Мы поладим с тобой, Первый ревзод, мы найдем с тобой общий язык раньше, чем ты прикажешь выдрать мой язык из глотки. Сама судьба моими устами скажет тебе, кто такой Ферруго… Только очень хочется пить..
Первый ревзод кивнул, и шуту поднесли большую чашу прохладной воды.
Пусть принесут шуту тонкую соломинку — он хочет поиграть сначала в свою любимую игру.
Первый ревзод кивнул, и шуту принесли тонкую соломинку.
Шут склонил свое лицо над чашей, и кровь стала капать в нее и капала до тех пор, пока чаша не наполнилась до краев. Тогда шут взял в рот конец соломинки, а другой конец ее опустил в чашу… И взбурлил, и вспенил кровавую жижу остатками своего воздуха, и начал выдувать большие мутно-кровавые пузыри, и они поплыли над городом в неподвижном от зноя пространстве. И шут улыбался своей затее… Разве не нравится Первому ревзоду любимая игра шута? Видит ли он, куда летят эти пузыри? Они летят по прихоти неба, и там, где опустится последний из них, там и следует искать Ферруго… Не правда ли, веселая игра?.. А мутно-кровавые пузыри все плыли и плыли в неподвижном воздухе и опускались на крыши домов и хижин, на городскую площадь, на обрыв Свободы. И дети изо всех сил дули на них, не давая опуститься на землю, а старшие испуганно молились, видя в этом дурное предзнаменование. И, достигнув все же земли или какой-либо крыши, они беззвучно лопались, оставляя после себя лишь мокрое красное кольцо… И последний из них медленно опустился на дворец мадранта. И тогда шут захохотал… Вот и вся моя игра, Первый ревзод! Вперед же, во дворец! К мадранту! И он скажет тебе, кто такой Ферруго!..
И Первый ревзод понял, что шут от боли и пыток лишился рассудка, и нет в нем больше никакого проку. И дал он знак палачу Басстио, чтобы тот прикончил шута.
И палач Басстио сделал это.
И не стало больше на свете его лучшего друга шута-шутища. Он прекратил свое существование в этом мире для того, чтобы потом снова возникнуть (когда только?) в другом обличье (каком только?) и дурачить людей, или выпрыгивая из воды смеющимся дельфином, или страшно ухая по ночам филином, озадачивая всех своей тайной…“
Уважаемый и дорогой Н.Р.!
Умоляю Вас не считать мое искреннее, продиктованное болью в сердце письмо грязной анонимкой, против чего я решительно борюсь всю свою жизнь. Но я не ставлю свою фамилию, во-первых, чтобы не сложилось впечатление, будто я свожу личные счеты со своими неединомышленниками, а во-вторых, я просто боюсь быть подвергнутым гонениям и литературному остракизму.
С любовью к уважением
Читатель».
Алеко Никитич сидит у себя в кабинете, откинувшись на спинку кресла… С-с-с… Задачи перед ним возникли нелегкие. Н.Р. зря слов на ветер не бросает… Он не забудет того, что говорил тогда о подвиге, и не слезет с Алеко Никитича до тех пор, пока не увидит в журнале соответствующий материал. Тут никакими врезками не отделаться… С-с-с… Кстати, надо получить от Колбаско разоблачительные стихи по поводу слухов о летающей тарелке… И этот австралийский Бедейкер приезжает… Совсем не вовремя… Алеко Никитич еще надеялся, что приезд фанберрских гостей отменится или по крайней мере перенесется. Но нет. Телеграмма, полученная утром, не оставила никаких надежд… С-с-с… Алеко Никитич автоматически перечитывает лежавшую перед ним на столе телеграмму:
«Господин Бедейкер делегацией прибывает Мухославск празднование годовщины побратимов Мухославска Фанберры двадцатого числа сего месяца. Обеспечить соответствующий уровень».
Н.Р. уже звонил по этому поводу. Он тоже в курсе… С-с-с… Алеко Никитич склоняется над столом и пишет основу будущего приказа.
«1. Встреча в аэропорту. — Отв. — А.Н.
2. Размещение в гостинице. Отв. — И.Г.
3. Посещение химкомбината. Отв. — А.Н.
4. Пресс-конференция в редакции. Отв. — А.Н. и И.Г.
5. Прием (банкет) в редакции. Отв. — А.Н., И.Г., Свищ.
(Утрясти меню с Рапс. Мург.)»
Кого пригласить на прием, тоже проблема. Кто будет выступать и что будут говорить, еще какая проблема! Не дай бог, кто что ляпнет! Бедейкер хоть и левых взглядов, но австралиец… С-с-с… Основные темы разговоров: мир, дружба, окружающая среда…
Мысли Алеко Никитича прерываются стуком в дверь. Он прячет свои пометки в стол и разрешает войти.
Колбаско выглядит бледным и понурым. Он здоровается, открывает свой «дипломат» и кладет на стол лист с напечатанными строчками.
— Вот, — говорит он. — То, что вы просили.
— Садитесь, Колбаско, — приглашает Алеко Никитич. — Что с вами? Случилось что-нибудь?
Колбаско моргает, вздыхает:
— Лажа, Алеко Никитич… Семейная лажа…
— Не понимаю.
— Лажа. Людмилка к матери ушла. Галопом в столб. Проскачка…
— Причины?
— Не знаю. Дал ей рукопись прочитать — она наутро ушла.
Алеко Никитич встревожен:
— Уверены, что из-за рукописи?
— Да, наверно, — отвечает Колбаско. — Накануне все было нормально.
Колбаско вздыхает.
— Говорили с ней? — спрашивает Алеко Никитич.
— По телефону.
— И что?
— Я, говорит, очнулась от страшного сна… Я, говорит, жила взаперти, я не понимала, что такое любовь… Знаете, Алеко Никитич, она очень впечатлительная… Когда я за ней ухаживал, я дал ей прочитать «Хижину дяди Тома»… Это произвело на нее сильное впечатление, и она вышла за меня замуж… Потом мы прекрасно жили, и она ничего, кроме моих стихов, не читала… Не надо мне было давать ей рукопись…