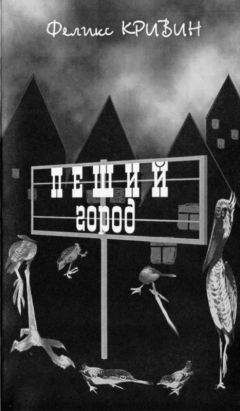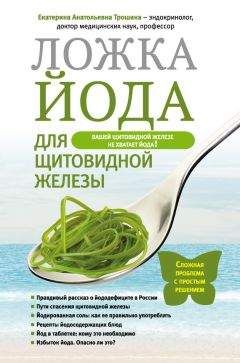И придут к тебе с цветами, коммунально придут, и будет их коммунальность рыдать над твоей индивидуальностью, а индивидуальность будет помалкивать, потому что все слова кончились, остались только два слова: «Хорошо лежим!»
Губошлепка не распахивала рот, как другие, а складывала губки трубочкой, чтобы быть еще красивей. И когда к ней подплывала какая-нибудь крошечка, какая-нибудь крохотулечка, она жеманно отворачивалась:
— Ой, что вы! Я столько не съем! Для меня это слишком много!
Либо быть сытой, либо красивой. Поэтому все красавицы вечно голодные. У них и талии узенькие, потому что животы подвело.
Губошлепка ждала своего рыцаря и к его возвращению хотела выглядеть, как настоящая прекрасная дама. Это ничего, что с такими дамами положено жить на расстоянии. Коммуналка у них большая, а если еще соседей выселить… Рыцарь их выселит, всех до одного выселит! И заживут они вдвоем, друг от друга на расстоянии, мечтала она, но, конечно, время от времени будут встречаться близко. Близко-близко, мечтала она, близко-близко-близко.
Внешне любовь по расчету не отличается от любви по любви. Говорятся те же слова: «Я тебя люблю!», «Я без тебя жить не могу!» — но при этом подразумевается: «Я себя люблю!», «Я без себя жить не могу!»
Обычная одноклеточная любовь, которая, кстати, встречается и у многоклеточных. И не только у каких-нибудь паукообразных или насекомообразных, но даже среди человекообразных немало представителей такой любви, способных только на любовь по расчету.
И однажды — мечты и расчеты сбываются! — какой-то рыцарь остановился у Губошлепки под окном. Она высунулась ему навстречу, сложив губы трубочкой, теперь уже не для красоты, а для решительных действий.
— Это ты, любимая? — спросил рыцарь и полез к ней наверх.
— Да, это я, любимая! — закричала она. — Я сейчас немножко помолчу, а ты посмотри, какой у меня маленький ротик!
Рыцарь уже долез, посмотрел на нее и засомневался:
— Нет, наверно, это не ты.
— Это я — не я? — завопила Губошлепка и так сильно раскрыла рот, что рыцарь отшатнулся из опасения быть проглоченным. — Ах ты, недошлепок пришлепнутый! Катись, откуда пришлепал!
И она вытолкала его из окна. И тут же вслед ему закричала:
— Куда же ты, любимый? Вернись, я все прощу!
Но он не вернулся. Когда летишь сверху вниз, трудно вернуться с полдороги.
Креветочка спонгикола сама коротенькая, а называется вон как длинно. Но не забывайте, что это имя дается на двоих. Спонг и Кола. Звучит, как Ромео и Джульетта, Тристан и Изольда, Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна.
Их поженили еще в младенчестве, сняв для них помещение у стеклянной губки, чтоб через стекло за ними присматривать. Поженить в таком возрасте, да еще подглядывать за супругами через стекло, на такое не были способны даже Монтекки и Капулетти. Но главная непедагогичность процесса состояла в том, что молодые пришли на готовое. Жилплощадь им была обеспечена, питание само заплывало в рот, и они, вместо того, чтобы строить семью, предавались безудержному росту, без учета возможностей помещения.
На первых порах их не смущала теснота, они еще тесней прижимались друг к другу и распевали веселую застеночную, которая у этих креветок передавалась из рода в род:
Сижу я в застенке, в застенке, в застенке,
Здесь очень удобно держаться за стенки.
А там, на свободе, поди подержись!
Сдалась мне такая свободная жизнь!
Первым опомнился Спонг. Ему захотелось сходить на сторону, он сунулся к выходу, а выйти не может. А потом и Кола, решив уйти от мужа к родителям, тык-мык — в дверь не пролазит, хотя внимательно за собой следила, как всякая женщина.
Да что же это за семья такая? Ни развестись, ни сходить на сторону. Даже если б Кола была не Джульеттой, а Джульеттой Мазиной, а Спонг вообще первым парнем на деревне (ничего себе деревенька — Мировой океан!), от такой жизни в петлю полезешь, если до нее через стекло дотянешься.
Из такой тесноты можно было только мечтать дотянуться до свободной жизни. Стекло специально для того и было поставлено, чтоб видеть эту жизнь было можно, а дотянуться до нее — нельзя. Хотя общеизвестно, что из семейной жизни надо время от времени выходить, чтоб хотя бы ее проветривать.
Теперь они пели не в два голоса, а каждый в свой, отдельный, обособленный от другого:
Сижу я в застенке, в застенке, в застенке,
Мне так надоело держаться за стенки!
Но хочешь — не хочешь, сиди и держись…
Сдалась мне такая семейная жизнь!
Город Брюхоножск был похож на город Венецию, но стоял не на воде, а под водой, на самом дне океана. Какие в этом городе были дворцы! Какие хоромы, терема, чертоги! И все эти строения на месте не стояли. Дома бродили по улицам, улицы — по городу. В этом городе бродили многие, потому что многие были многоногие.
И на одной из улиц этого прекрасного города жил простой хлопец Жаброног. Ракообразный, уж и неизвестно в каком поколении. Он жил на улице, но не в доме, а возле дома. Потому что своего дома у него не было.
Жизнь снаружи дома имеет свои преимущества. Прежде всего, не так к этому дому привязываешься. Если, допустим, пожар или наводнение (бедствия, почти невозможные на глубине океана), если крыша протечет или пол провалится, дом, снаружи которого живешь, не так жалко бросить. А прогонят, можно и получше найти. И так все время двигаться от лучшего к еще лучшему.
А уж если Брюхоножка выглянет из окна, тут для Жабронога настоящий праздник (вздох ногой). А если вдобавок на него посмотрит… (учащенное дыхание ног).
Тут следует сказать, что жители Брюхоножска не только ходили ногами, но непременно ногами еще что-то делали. Лопатоног работал ногами, Ротоног ел ногами (какой позор!), а Жаброног дышал ногами. И вздыхал ногами. И ногами не мог надышаться на Прекрасную Брюхоножку. Он бы на нее надышался, но она не пускала его к себе на порог. Хорошо хоть от порога не гнала, а если гнала, то непременно с каким-нибудь поручением. И соседи Брюхоножки приспособились посылать Жабронога. Кто за этим пошлет, кто за тем, кто просто пошлет, чтоб перед глазами не маячил.
А назывались дома почему-то раковинами. В раковинах должны жить раки, а кто живет? Брюхоногие, головоногие. В то время, как ракообразный Жаброног не имеет куда привести Прекрасную Брюхоножку.
— Разве это справедливо? — вопрошает ракообразный Мечехвост, готовый в любую минуту начать войну за перераспределение справедливости. Правда, меч у него где-то сзади, а щит впереди, так что никогда не знаешь, наступает он или отступает.
Городской голова Головоног тщетно пытался навести в городе порядок. Он ерзал головой по центральной площади и жалобно тянул:
— Ну что мне с тобой делать, красавица? Ты бегаешь по городу, а за тобой бегает весь город.
— Подумаешь, прошлась, — пожимала плечами Брюхоножка. Городской голова был очень умный. Когда он что-то обдумывал, в этом принимала участие не только голова, но и остальные части тела. Пищевод у него проходил через мозг, поэтому Головоног тщательно обдумывал каждый кусок и никогда не ел больше положенного. А ноги у него все определяли на вкус. И всех определяли на вкус. И он говорил:
— Этот парень довольно нахальный на вкус. А этот — ленивый на вкус. А вон тот на вкус — вполне приличный, свой парень.
И когда Головоног хватался за голову, это вовсе не значило, что он был чем-то расстроен или паниковал. Просто он определял на вкус, какие у него мысли — умные или глупые.
Сколько времени прошло, а многие еще и сейчас чуть что хватаются за голову. Но сколько они ни хватаются, им никак не удается отличить умные мысли от глупых.
А Головоног между тем все перебирал и перебирал свои мысли и никак не мог определить, почему за ним, городским головой, никто не бегает, а все бегают за какой-то Брюхоножкой. Стоит ей двинуться с места — и сразу меняется облик города.
— Это не потому, что я бегаю, а потому, что они за мной бегают, — оправдывалась Брюхоножка.
— А почему они бегают?
Брюхоножка скромно потупляла глаза, давая понять, что это каждому ясно.
А народ все валил и валил, каждому хотелось посмотреть на Прекрасную Брюхоножку. А на Головонога никто не смотрел, хотя к нему относились с большим уважением. Но что значит уважение по сравнению с любовью!
И тут отец города нащупал очень хитрую мысль. Нужно запретить народу бегать за Брюхоножкой, а ей приказать — пусть бежит. И внимательно проследить, кто посмеет ослушаться приказа.
Так он и сделал. И спросил для верности:
— Все слышали приказ?