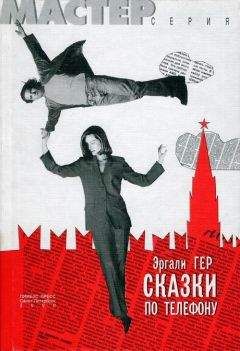Ознакомительная версия.
– Хорошо, давайте.
Страх, смешанный с любопытством, овладевает мной. Опять разбирать этот сумасшедший почерк, смиренный печатными буквами с аккуратными островками вымарок. Вот только уже не встречу на «Фрунзенской» белобрысого акселерата с кожаным шнурком вместо галстука.
– Вы не поедете с нами? – спрашивает девушка.
– Куда?
– Ко мне. Все Пашины друзья едут ко мне.
– Не знаю… Дел невпроворот…
Насчет дел я, конечно, не соврал.
– Знаете, я вам оставлю адрес: сможете – приезжайте.
– Спасибо.
Бумажку прячу в карман. Может, правда, плюнуть на все?…
– Если смогу – приеду.
Подхожу к Пашиным родителям; Дима, а вы разве не поедете к нам? Нет? Ну конечно, работа… Спасибо вам.
Пашина мама вдруг подается ко мне, утыкается в плечо.
– Оля, – раздраженно говорит отец. – Оля!
– Все, все. – Пашины глаза вновь смотрят на меня с ее лица. – Все! Спасибо вам.
Я мнусь еще несколько секунд, потом поворачиваюсь и ухожу. Автобус увозит меня по щербатой дороге все дальше от покосившихся решеток, к кольцевой, к телефонам-автоматам, к маленькому рынку у метро… Напряжение отпускает понемногу, и вскоре я уже благосклонно поглядываю в грязное окно на проплывающую мимо улицу с манящим, тихим названием Библиотечная. Время скорби честно прожито мной – пора возвращаться, вспоминать все сто тридцать пять дел, отложенных утром.
Пепельников!
Забыл ему позвонить. Все! Это конец. Он наверняка заказал текст кому-то еще. Есть умельцы – за час залудят эту поступь и не поморщатся. От мысли, что в эту самую минуту какой-нибудь прохиндей, попивая кофий, уже рифмует «время-стремя», я издаю стон – стон страдания, ревности и финансовой катастрофы. Случившаяся рядом сердобольная старушка протягивает мне анальгин. Спасибо!
Дорогу до метро я досиживаю, как на углях, выскочив, опрометью бросаюсь к автоматам. Телефонную книжку я, конечно, не взял, но пепельниковский номер, слава аллаху, затвержен наизусть.
Занято.
Набираю еще несколько раз, потом уступаю место прыщавому парню и долго слушаю, как он уламывает какую-то Нинон пойти размяться. «Ну че ты?» – говорит он, и через минуту: «Ну ладно, че ты?»
Когда он наконец дочекивает, я почти вырываю трубку из его рук. Если все это было напрасно – я не знаю, что я сделаю! Наконец – долгие гудки в трубке, сердце мое обрывается и летит куда-то в область живота. Ну?
Ворчливый голос советует мне правильно набирать номер.
– Я набираю правильно! – ору я в бибикающую трубку и бросаю ее на рычаг. Убивал бы таких советчиц. Двушки у меня кончаются, нервы тоже. Изможденный, выхожу из кабины и опускаюсь на уборочную машину – из тех, которыми распугивают припозднившихся пассажиров.
Спокойно, все в порядке. Текст у меня практически готов, рабочий день – до пяти. Все хорошо. Все просто замечательно. Кому я еще должен отзвонить? Ну конечно! Подайте двушку, граждане!
– Алле!
– Людмила Леопольдовна, здравствуйте, это Скворешников.
– Почему ты не позвонил, Дима? Что-нибудь случилось?
– В общем, да, – говорю я, мысленно обложив себя последними словами. – У меня друг погиб. Сегодня вот похоронили.
– О боже.
Легкое угрызение совести царапает меня: получилось, будто не звонил я из-за Паши… Пытаюсь представить, что сказала бы Косицкая, узнай она о моих трудах к красным датам, – и не могу. Ничего бы не сказала. Просто потеряла бы ко мне интерес, и все. Я слышал однажды, как она разговаривала по телефону с одним «бывшим учеником», как брезгливо был он отрекомендован мне по окончании разговора. Не приведи господи услышать когда-нибудь такой голос обращенным ко мне.
– Людмила Леопольдовна, у вас было какое-то дело…
– Да, милый. У тебя ведь из Венслея уже есть что-то?
В сердце у меня тенькает.
– Есть, – говорю я неправду.
– Ну вот и славно.
По голосу ее, бодрому и чуть небрежному, догадываюсь: мне приготовлен подарок.
– Ты знаешь, где находится редакция «Мира и литературы»?
– Да, – говорю я чуть быстрее, чем следовало бы, и полминуты, проклиная себя, слушаю инструктаж.
– Людмила Леопольдовна… – Сгорая от стыда, я начинаю разыгрывать требовательность к себе. – Может, не Венслея – хотелось бы еще над ним посидеть…
Еще бы не хотелось – там только подстрочник!
– Посидишь, Дима, – весело подбадривает Косицкая, – а Венслея все-таки принеси, у них сейчас как раз восемнадцатый век идет. Два-три стихотворения.
Два-три!
– Когда нужно принести? – кротко спрашиваю я.
– Вообще-то вчера, – смеется Косицкая. – Но можно до среды. И чем скорее, тем лучше.
– Ясно, – говорю. – Постараюсь. Спасибо вам.
Ну почему, остолоп эдакий, я не перезвонил ей сразу же? Была бы у меня почти неделя, а так – сегодняшний огрызок и три дня. Академический журнал! «Джон Венслей в переводах Дмитрия Скворешникова»!
Срочно расправляться с «поступью». Сейчас же!
Через минуту дозваниваюсь Пепельникову, и сразу верхним чутьем понимаю: все в порядке. Коротко и, насколько возможно, с достоинством сообщаю: текст готов, но сегодня передать уже не смогу, только завтра. Мой работодавец несколько обескураженно соглашается: только с самого утра, Димочка, и не опаздывай, пойду с твоей нетленкой по начальству, а в понедельник – уже на самый верх…
О том, что Пепельников имеет в виду под «самым верхом», лучше не задумываться, не мое собачье дело. А вот описание предстоящих с моей нетленкой хлопот мне определенно не нравится. Ладно, мы ребята простые, намеков не понимаем. Нам бы припевчик накорябать поскорее – и с глаз долой, из сердца вон! Только откуда ж его взять, припевчик?
И тут меня осеняет. Я знаю, откуда.
В библиотеке почти пусто, только корпят над конспектами две студентки, листает подшивки старушка, да в углу, обложившись древностями, водит носом по странице маленький горбун.
Окаменив лицо, я прошу у библиотекарши трехтомник песен и маршей – милая девушка, оформляя заказ, бросает на меня взгляд, полный сочувствия к внезапно и тяжело заболевшему человеку.
Получив красные кирпичи, тридцать лет и три года ожидавшие меня, своего первого читателя, я притуляюсь в кресле у столика. Ну, Дмитрий Олегович, давай. Лиха беда начало. «Буря мглою небо кроет…»
Через полчаса, собрав в кучку все написанное четырехстопным хореем, я затеваю совершенно хамскую компиляцию: пересаживаю эпитеты из песен к глаголам из маршей, меняю «веселье» на «весенний», «народ» на «вперед», переписываю все начисто – и, как Пигмалион, отхожу в сторонку, чтобы полюбоваться своим детищем.
Вот она, моя Галатея – четыре куплета и припев. Моя уродочка. Влюбиться в нее я, конечно, не смогу, но продам всем желающим – и завтра же… Смысла тут не больше, чем на любой из тысячи страниц трехтомника – но, видит бог, и не меньше! А оптимизма просто девать некуда.
Жди меня, Пепельников, завтра в девять утра, получай, драгоценный, свой заказ, потому что я его больше видеть не могу.
Вам стыдно за меня, граждане? Кому стыдно – дайте двести рублей.
Господи, неужели все? Вот это вот безобразие – и долги, и за свет-газ, и женушке чего-нибудь; глядишь, и в кафешку вырвемся, прокутим на двоих червонец… А главное – Венслей! Сегодня же, сейчас же – Венслей! Господи, как хорошо-то; почему я раньше не сообразил про марши?
Домой, скорее домой!
– Ди-им… – тянет из кухни жалобный голос. – Это ты?
– Я.
– Это хорошо-о. А то твоя дочь меня доконала-а.
Шум воды обрывается, Ирка выходит в коридор, прислоняется к стенке.
– Здравствуй, Скворешников.
– Здравствуй, Скворешникова, – отвечаю.
– Ну как? – спрашивает она.
– Отлично!
– Что-о-о? – Ирка даже отрывается от стенки.
Дурак же я. Дурак бесчувственный, сволочь. Пораженный нежданным чувством, так и стою у двери – в расстегнутой куртке, с «дипломатом» у ног.
– Извини, – бурчу я.
– Дим, ты чего?
– А… – машу рукой. – Так…
– Может, уж сбегаешь за картошкой? Пока не переоделся…
Картошка – мой вечный долг перед человечеством. На улице уже темнеет. Скоро будет темнеть еще раньше, а потом наступит зима, и в первом номере «Мира и литературы» появятся мои переводы. Скорей бы добраться до папки. В магазин я врываюсь почти бегом.
Дома, еле заставив себя переодеться, бросаюсь к машинке. С каким же удовольствием отстукиваю я наконец четыре злосчастные строфы с припевом-компиляцией; как сладко знать, что больше никогда в жизни не прочтешь этих слов, что честно сделал свое дело, приволок эстафетную палочку на следующий этап – и можешь идти в кассу…
Торжественным дирижерским жестом ставлю последний восклицательный знак.
Теперь поужинать – и за дело. Хозяйственную барщину я отработал картошкой – вечер, без сомнения, мой. Мысль, что вот-вот, уже в любой момент, могу достать из секретера милую сердцу папку с полотняными широкими завязками, папку, на которой не без изящества написано черным фломастером английское Wensley, – мысль эта будоражит меня и лишает вкуса тушеную картошку с мясом и кружками моркови.
Ознакомительная версия.