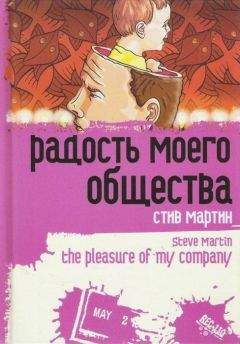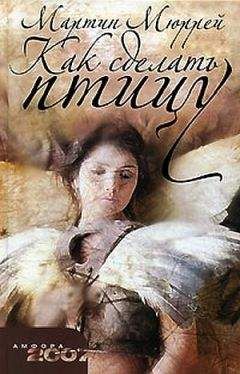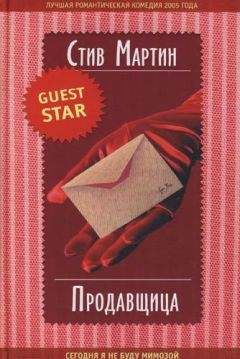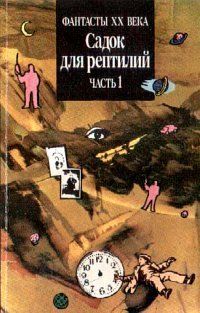— Так, — сказал он. — Похоже, нас здесь надули. Почему бы не подождать несколько дней и не посмотреть, какие облигации подвернутся еще?
Я понял, что передо мной — мой человек.
* * *
Вход Клариссы и Тедди в новую квартиру был библейским. Их словно привели в землю обетованную. Солнечные пятна ковриками расползлись по всем спальням, я украсил все пустующие углы дешевыми растениями — как в каталоге по дизайну интерьеров, который нашел у себя в почтовом ящике. Я проводил Клариссу по всем комнатам, и она восхищенно вздыхала в каждой, что мне доставляло удовольствие. Я включил в бюджет ровно столько мебели, чтобы квартира была функциональной, так что помещение выглядело несколько голым. Но если мой двенадцатилетний план сработает, наличные потекут, как песок в песочных часах. У Клариссы имелась кое-какая мебель — она напрягла приятеля с пикапом ее перевезти, и пестрые пожитки Тедди быстро распространились по всей квартире. Кларисса установила телефон, на который я подозрительно косился, но в итоге забыл о его существовании. Мало-помалу дом заполнялся, несколько фотографий в рамках — и к концу месяца он выглядел семейным очагом. Разве что.
Разве что дистанция между мной и Клариссой не исчезла. Иногда я чувствовал с ее стороны сильную любовь ко мне — но вдруг это было из-за Тедди? Я не торопил события, и не торопить их было легко, потому что зачастую выходки Тедди не оставляли места для серьезных разговоров. Если моя рука ложилась на Клариссину, то лишь на мгновение — я убирал ее, чтобы перехватить Тедди. Когда он топал по квартире, Кларисса клонилась над ним как ива. Понятия "минута наедине" просто не существовало. Я начал позволять себе в уме фразу, которую никогда не позволил бы на той стороне улицы. Несовершенный идеал. Насколько зарегулированной была моя жизнь на той стороне, настолько беспорядочной она стала в "Венце Розы". Хаотичность Тедди приводила и меня в структурную сумятицу, и думаю, мне удавалось с этим мириться, потому что у хаоса был единый источник. Это был индивид вне логики; это был уникум.
* * *
Когда обнаруживаешь, что человек, любимый тобой, любит другого — это разочаровывает. Такое открытие я сделал дважды. Впервые — когда мы сидели втроем за нашим обычным ужином. Трапезы представляли собой фантастический ералаш в конце моих строго структурированных дней, которые я проводил, уткнувшись носом в финансовые журналы и сводки. Я приучился это предвкушать и принимать в этом участие с моей новообретенной беспечностью. Мы с Клариссой скидывались и заказывали на дом еду — и сколько было непринужденной болтовни под аккомпанемент белых бумажных мешков с салфетками и пластиковыми приборами и пакетов с тунцовыми сэндвичами и горчицей. Этот шорох и треск пластиковых контейнеров с майонезом всегда разжигал в нас захватывающие воспоминания о самых незначительных событиях дня, и месяцы спустя я осознал — то были священные получасы.
Усадив Тедди на высокий стульчик, Кларисса раскладывала перед ним несколько кусочков тунца, он мял их в шарик и совал в рот, после чего поворачивался к ней и улыбался. Кларисса сияла и расплывалась в улыбке — она была сосредоточена только на сыне; ничего больше не существовало — ни квартиры, ни работы, ни учебы, никакой жизни, помимо той радостной энергии, что струилась между ними. И никакого меня. Я сидел и переживал эту поглощенность, которая ослабела, когда Кларисса тянулась за новой порцией пищи, и в конце концов оба спускались на землю.
* * *
В учебе Кларисса делала успехи — она отдавалась занятиям с азартом, на лету схватывая язык психологии. И лексику, и понятия она усваивала с легкостью и намекала, что испытывает к предмету чувства, которых нет у других студентов. По вечерам она делилась со мной тем, что узнала за день, давала краткие разборы недугов и синдромов, пересказывала свои ответы на семинарах, чтобы услышать мое мнение.
Кларисса всегда относилась ко мне внимательно и благодарила за поддержку в жизни, а я, в свою очередь, говорил спасибо ей, что ее всегда озадачивало. Воздействие, которое они с Тедди оказали на мою жизнь, явно проявилось в тот день, когда пришел пакет писем, перенаправленных с моего старого адреса. Там был и конверт из "Менсы". Я его открыл и прочел, как я и догадывался: обнаружено, что мои результаты искажены из-за человеческой ошибки, и не желаю ли я пройти тестирование вновь? Моя первая мысль приняла форму шока: человеческая ошибка в "Менсе"? А что же тогда творится в "Макдоналдсе", в "Верном средстве" и "КомпСША"? Моя вторая мысль приняла форму семантического содрогания от словосочетания "человеческая ошибка": а что, разве бывают другие? Третья моя мысль была: нет, я не хочу тестироваться снова, потому что здесь у меня идет жизнь, пусть даже она всего лишь компиляция из фрагментов жизни другого человека.
* * *
Как-то вечером мне позвонила Кларисса и спросила: ничего, если она придет позже, чем обычно?
— Ты не против? Ты никуда не собирался? — спросила она. — Ты не мог бы присмотреть за Тедди; как там Тедди?
— Самой собой, — ответил я.
Мы с Тедди провели блаженный вечер. Он был образцовым ребенком, а я образцовым опекуномдядейдругом. Мы побесились на кровати, сыграли в мусороведерный баскетбол, сыграли в "А где Тедди?" — всё на профессиональном уровне. Наконец он понурился, и его сморило на моей постели, а я, подвинув его, прилег рядом. Мои требования к освещению оставались в силе, и неяркую тридцативаттную лампу на моем комоде уравновешивала солнечная яркость в гостиной. Дверь была приоткрыта, и я мог видеть вход и окно, оставаясь в относительной темноте. Это время я употребил на абсолютное ничто, ибо стравил из мозга все мысли.
Тонто* [*Т о н т о — индеец, герой популярного радио- и телевизионного вестерна "Одинокий объездчик" (с 1930 г.). К своему другу, техасскому борцу за справедливость, обращался "кемо сабе" (верный смельчак)].
Вот кем я себя почувствовал, когда услышал шаги в галерее второго этажа. Я сказал себе: "Их двое, Кемосабе, и они идут сюда". Я услышал голос Клариссы, потом — мужской голос. Они говорили медленно, отзываясь одинаковым полушепотом. Ее ответы были робкими; его вопросы — невозмутимыми и уверенными. Они прошли мимо окна, и я увидел, как она смотрит в пол, нашаривая ключи. Дверь открылась, она вошла в квартиру, положила сумочку и обернулась. Он заговорил и вошел в квартиру. Ее рука легла на выключатель, и яркий верхний свет погас, что ввергло меня в трупное окоченение. Но я смотрел. Они снова заговорили, и он, положив руку ей на плечо, повлек ее к себе. Она поддалась. Он скользнул рукой ей под волосы. Он припал к ней и уткнулся лбом в ее лоб; я видел, как он закрыл глаза и глубоко вдохнул, упиваясь ею. Губы его коснулись ее щеки, и я увидел, что она сдалась, опустились ее плечи, безвольно повисли руки. Его ладонь легла ей на спину, и он надавил, прижимая ее к себе. Ее рука обняла его спину, и он подобрался своими губами к ее губам и поцеловал, ее рука напряглась у него на спине, а вторая скользнула к его локтю. Ее голова откинулась, а он всё целовал ее, а потом отпустил, глядя ей в глаза, без слов.
Тяжело узнавать, как тот, кого любишь, любит другого. Я понял, что моему проживанию с Клариссой и Тедди придет конец.
* * *
Было начало июня, с Тедди я общался как повелось, а свою привязанность к Клариссе мало-помалу ослаблял. Были и другие ночи, подразумевавшие тихое закрывание дверей и предутренние ускользания. Эти звуки облегчали мне отрешение, хотя никаких официальных деклараций любви не было, хотя, насколько я знал, не было и знакомства Тедди с новым мужчиной, что, по моему ощущению, мудро со стороны Клариссы и бережно по отношению к ребенку.
В один особенно катастрофический день, когда я присматривал за Тедди, мы вступили с ним в битву интеллектов. Мой ум был последовательным, рациональным, неоспоримым. А его — нет. Сколь бы убедительны мои аргументы ни были, его невербальный ум сопротивлялся. У нас не имелось объединяющего языка и убеждений. Мне требовался посредник-консультант, который бы взялся нас переводить, искать общую почву, догмат, в котором бы мы сошлись, а затем подвел бы нас к взаимосогласованному поведению. Вся фрустрация сосредоточилась на бельевом кольце, надетом на подпорку для бельевой веревки. Тедди вопил — он его хотел, он его не хотел, он бранился (я уверен, это была брань), и никакой трассы спокойствию не просматривалось. Но были переходные моменты. Переходы от нахождения одной гадости к отыскиванию другой гадости. И тут он смотрел мне в глаза, как бы считывая, чего я от него хочу, чтобы сделать наоборот. Но эти переходы были и моментами тишины, а в тишине мой мозг работает быстрее всего. Я глядел в колодцы его радужек, в темные омуты линз, то наводящихся, то теряющих фокус.