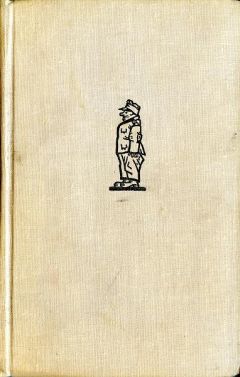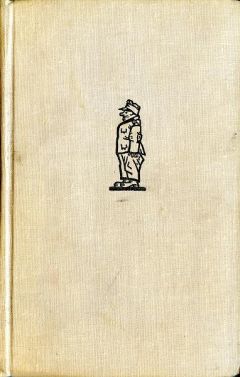— Читали?
— Ничего не читал.
— Слыхали?
— Нет, не слыхал.
— А знаете, в чем дело?
— Не знаю. Мне до этого нет никакого дела.
— Всё-таки это должно было бы вас интересовать.
— Не знаю, что меня должно интересовать. Я выкурю ситару, выпью несколько кружек пива и поужинаю. А газет не читаю. Газеты врут. Зачем я буду себе нервы портить?
— Вас не интересует даже это убийство в Сараеве?
— Меня никакие убийства не интересуют. Всё равно, произошла ли оно в Праге, в Сараеве или в Лондоне. Для этого имеются соответствующие учреждения, суды, полиция. Если где-нибудь кого-нибудь убили, то так ему и надо: не будь таким болваном и растяпой и не позволяй себя убивать.
Этими последними словами ему пришлось закончить разговор.
Выслушав все эти страшные заговорщицкие истории, Швейк счёл уместным разъяснить всем всю безнадёжность их положения.
— У нас у всех дело дрянь, — начал он слова утешения. — Это вы ерунду говорите, что вам, всем нам, ничего за это не будет. Для чего мы держим полицию, как не для того, чтобы она нас наказывала за наш длинный язык? Раз наступило такое тревожное время, что подстреливают эрцгерцогов, так нечего удивляться, что ведут в полицию. Всё это делается для эффекта, чтобы Фердинанд перед своими похоронами имел рекламу.
Швейк лег на койку и заснул сном праведника.
Между тем, привели двух новых. Один из них был босниец, который ходил по камере, скрежетал зубами и ругался. Его мучила мысль, что в полицейском управлении у него пропадёт лоток с товаром.
Второй гость был трактирщик Паливец, который, увидав своего знакомого — Швейка, разбудил его я трагическим голосом воскликнул:
— Увы, вот и я уже здесь!
Швейк сердечно пожал ему руку и сказал:
— Очень приятно. Я знал, что тот пан сдержит слово, раз обещал зайти за вами. Точность — прежде всего.
Пан Паливец, наоборот, заявил, что такой точности цена — грош, и тихо спросил Швейка, не воры ли остальные арестованные, как бы это не повредило ему как коммерсанту.
Швейк разъяснил ему, что все, кроме одного, который посажен за убийство с целью грабежа, сидят из-за эрцгерцога.
Паливец обиделся и заявил, что он здесь не из-за какого-то болвана эрцгерцога, а из-за самого государя-императора. И так как все остальные заинтересовались этим, он рассказал им о том, как мухи загадили государя-императора.
— Замарали мне его, бестии, — закончил он описание своего приключения, — и вот довели меня до тюрьмы. Я этого мухам так не спущу! — угрожающе добавил он.
Швейк опять завалился спать, но спал недолго, так как его вызвали на допрос.
Поднимаясь но лестнице третьего отделения, Швейк безропотно нес свой крест на Голгофу[11] и не замечал своего мученичества. Прочитав надпись: «Плевать на лестнице воспрещается», Швейк попросил разрешения у сторожа плюнуть в плевательницу и, сияя своей простотой, вступил в канцелярию со словами:
— Добрый вечер, господа, всем вообще и каждому в особенности.
Вместо ответа кто-то дал ему под рёбра и подтолкнул к столу, за которым сидел пан с холодным чиновничьим лицом, выражающим зверскую свирепость.
Он кровожадно посмотрел на Швейка и сказал:
— Не прикидывайтесь идиотом!
— Я и не думаю, — серьёзно ответил Швейк. — Меня освободили от военной службы за идиотизм. Я особой комиссией официально признан идиотом. Я — официальный идиот.
Господин с лицом преступника заскрежетал зубами.
— Предъявленные вам обвинения в совершённых вата преступлениях свидетельствуют о том, что вы вполне здоровы.
И тут же перечислил Швейку целый ряд разнообразных преступлений, начиная от государственной измены и кончая оскорблением его величества и членов царствующего дома. В центре преступлений красовалось одобрение убийства эрцгерцога Фердинанда, и оттуда уже ответвлялись новые преступления; среди них значилось возбуждение масс, так как всё это происходило в общественном месте.
— Что вы на это скажете? — победоносно спросил господин со свирепыми чертами лица.
— Вполне достаточно, — невинно ответил Швейк. — Излишество вредит.
— Значит, вы признаете?
— Я всё признаю. Строгость должна, быть. Без строгости никто бы ни чорта не достиг. Вроде того, когда я был на военной службе…
— Молчать! — крикнул полицейский комиссар на Швейка. — Говорите только тогда, когда вас спрашивают! Понимаете?
— Как не понять, — сказал Швейк. — Осмелюсь доложить, понимаю, и всё, что вы изволите говорить, приму к сведению.
— С кем состоите в сношениях?
— Со своей прислугой, вашескородие.
— Я говорю, нет ли у вас каких-либо знакомств в кругах политических?
— Как же, вашескородие. Покупаю вечерний выпуск «Национальной политики».
— Вон! — заревел на Швейка господин со зверским выражением лица.
Кода Швейка выводили из канцелярии, он сказал:
— Спокойной ночи, вашескородие.
Вернувшись в камеру, Швейк сообщил арестованным, что это не следствие, а смех один: немножечко на вас покричат, а под конец выгонят.
— Раньше, — заметил Швейк, — бывало куда хуже. Читал я в какой-то книге, что обвиняемые, чтобы доказать свою невинность, должны были ходить босыми ногами по раскалённому железу и пить расплавленный свинец. А кто не хотел сознаться, тому на ноги надевали испанские колодки, вытягивали на дыбу или же палили пожарным факелом бока. А потом человека четвертовали или же сажали на кол где-нибудь возле музея. Если же обвиняемого только сбрасывали в яму на голодную смерть, то такой человек чувствовал себя словно вновь воскресшим. Теперь сидеть в тюрьме — пустяки! — похваливал Швейк. — Нет ни четвертования, ни колодок. Койка у нас есть, стол есть, лавки дали, друг друга мы не тесним, похлёбка нам полагается, хлеба дадут, жбан воды принесут, отхожее место под самым носом. Во всём виден прогресс. Немного, правда, далеко ходить на следствие — но трём лестницам (подниматься, но зато на лестницах чисто и оживлённо. Одного ведут сюда, другого — туда. Тут молодой, там старик, и мужчины, и женщины. Радуешься, что ты здесь не один. Каждый спокойно идёт своей дорогой, и не приходится бояться, что ему в канцелярии скажут: «Мы посовещались, и завтра вы будете но вашему собственному выбору или четвертованы или сожжены». Это нелегко было выбирать. Я думаю, господа, что на многих из нас в такой момент нашёл бы столбняк. Да, теперь условия, на наше счастье, стали получше.
Швейк только что кончил защитительную речь в пользу современного тюремного режима, когда надзиратель открыл дверь и крикнул:
— Швейк, оденьтесь и идите на допрос!
— Я оденусь, — ответил Швейк, — против этого я ничего не имею. По боюсь, что это недоразумение. Меня уж раз выгнали с допроса. Притом я опасаюсь, как бы остальные господа, которые здесь со мною, не рассердились на меня за то, что я иду на допрос уже второй раз, а они ещё ни одного раза за этот вечер не ходили. Они могут быть в претензии на меня.
— Вылезайте вон и не болтайте! — был ответ на проявленное Швейком джентльменство.
Швейк опять очутился перед господином с лицом преступника; тот безо всяких околичностей, решительно и бесповоротно спросил его:
— Во всём признаётесь?
Швейк уставил свои добрые голубые глаза на неумолимого человека и мягко сказал:
— Если вы желаете, вашескородие, чтобы я признался, так я признаюсь. Мне это не повредит. Но если вы скажете: «Швейк, ни в чём не сознавайтесь», — я буду выпутываться до последнего издыхания.
Строгий господин написал что-то на акте и, подавая Швейку перо, сказал ему, чтобы тот подписался.
И Швейк подписал показания Бретшнейдера со следующим дополнением:
«Все вышеуказанные обвинения против меня признаю справедливыми.
Иосиф Швейк».
Подписав бумагу, Швейк обратился к строгому папу:
— Ещё что-нибудь подписать? Или мне притти утром?
— Утром вас отвезут в уголовный суд, — был ответ.
— А в котором часу, вашескородие, чтобы, боже упаси, как-нибудь не проспать?
— Вон! — раздался во второй раз рёв по ту сторону стола, перед которым стоял Швейк.
Возвращаясь в свою новую, огороженную железной решёткой, квартиру, Швейк сказал сопровождавшему его караульному.
— У вас тут всё идёт без сучка, без задоринки.
Как только за Швейком затворили дверь, товарищи по заключению засыпали его вопросами, на которые Швейк просто ответил:
— Я сейчас сознался, что, может быть, это я убил эрцгерцога Фердинанда.
Все шесть человек в ужасе разом спрятались под завшивевшие одеяла.
Только босниец сказал:
— Здо́рово!
Укладываясь на койку, Швейк заметил:
— Глупо, что у нас нет будильника.
Утром его все же разбудили и без будильника и ровно в шесть часов Швейка уже отвозили в тюремной карете в областной уголовный суд.