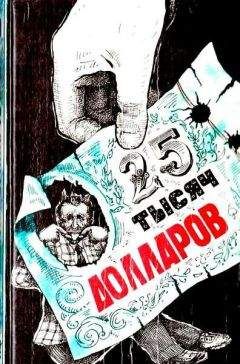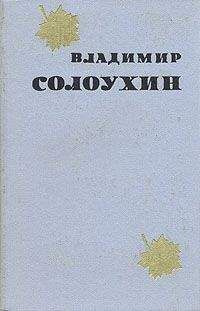Козленок ласково поцеловал ее.
— Нет, ни под каким видом не могу я допустить, чтобы дама привязывала мою лошадь, — сказал он. — Но я буду весьма благодарен, chica,[9]если ты поставишь вариться кофе, пока я займусь caballo[10].
Козленок гордился не только своим умением стрелять без промаха, но и галантностью. Он всегда держался с представительницами прекрасного пола как истый кабальеро — muy caballero, по выражению мексиканцев. С ними он неизменно бывал учтив и заботлив. Он ни за что не сказал бы женщине резкого слова. Беспощадно убивая их мужей и братьев, он был не способен поднять руку на женщину даже в гневе. И потому многие из тех, кто принадлежит к этой интересной половине человеческого рода, испытав на себе обаяние его изысканной вежливости, наотрез отказывались верить ходившим о нем историям. Все это только пустые слухи, заявляли они. А когда отцы, мужья и братья в негодовании представляли им неопровержимые доказательства жестоких и гнусных деяний их кабальеро, они отвечали, что ему, вероятно, не оставили иного выхода и что он, во всяком случае, знает, как следует обходиться с дамой.
Памятуя об этой маниакальной учтивости Козленка и о том, как он любил ею щеголять, легко понять, с какими трудностями было сопряжено для него решение задачи, поставленной перед ним тем, что он увидел и услышал из своего укромного убежища среди опунций, — по крайней мере, в отношении одного из участников драмы. С другой стороны, поверить, будто Козленок способен оставить это незначительное дельце без последствий, было и вовсе невозможно.
Когда короткие сумерки сменились ночным мраком, они при свете фонаря уселись в хижине ужинать вареными бобами, жареной козлятиной, консервированными персиками и кофе. После еды дряхлый пращур, чье стадо уже было заперто в загоне, выкурил папиросу, завернулся в серое одеяло и превратился в мумию. Тонья мыла щербатые чашки и миски, а Козленок вытирал их полотенцем из мешковины. Ее глаза сияли, и она подробно описывала события, приключившиеся в ее крохотном мирке с того времени, когда Козленок был у нее в последний раз. Все происходило точно так же, как в любой другой его приезд.
Потом они вышли на воздух, и Тонья, опустившись с гитарой в сплетенный из камыша гамак, начала петь печальные canciones de amor[11].
— Ты меня любишь по-прежнему, старушка? — спросил Козленок, шаря по карманам в поисках бумаги для папиросы.
— По-прежнему, мой маленький, — ответила Тонья, не опуская устремленных на него темных глаз.
— Надо сходить к Финку, — сказал Козленок, поднимаясь. — За табаком. Я думал, что прихватил с собой еще один кисет. Я вернусь через четверть часа.
— Возвращайся быстрее, — попросила Тонья. — И скажи, долго ли на этот раз я смогу называть тебя моим? Уедешь ли ты завтра, оставив меня тосковать, или побудешь со своей Тоньей подольше?
— Да нет, денька два-три я тут побуду, — ответил Козленок, зевая. — Я уже месяц кружу, пора и отдохнуть.
Он вернулся с табаком только через полчаса. Тонья все так же покачивалась в гамаке.
— Странное у меня чувство, — сказал Козленок. — Мерещится и мерещится, что за каждым кустом кто-то залег и вот-вот меня подстрелят. Прежде со мной такого не бывало. Вроде как вещее знамение. Пожалуй, уеду-ка я завтра с рассветом. По всей Гваделупе черт-те что делается оттого, что я прикончил этого немчуру.
— Ты ведь не боишься? Моего маленького храбреца никто не испугает!
— Ну, когда доходило до дела, заячьей душой меня вроде еще ни разу не называли. Только я не хочу, чтобы погоня накрыла меня в твоем доме. А то, глядишь, шальная пуля угодит в кого не следует.
— Останься со своей Тоньей, тут тебя никто не разыщет.
Козленок окинул острым взглядом темную речную долину и уставился на тусклые огоньки мексиканского поселка.
— Ладно, посмотрим, как все дальше пойдет, — решил он.
Незадолго до полуночи в лагерь конных стрелков прискакал неизвестный всадник, возвещая о своем приближении громкими криками в доказательство мирных намерений. Сэндридж и два-три солдата выбежали на шум из палаток Всадник сказал, что он приехал с Волчьего Брода, а зовут его Доминго Салес. У него письмо для сеньора Сэндриджа. Старуха Луиза, прачка, упросила его поехать вместо ее сынишки Грегорио, потому что мальчик слег в лихорадке, объяснил он.
Сэндридж зажег фонарь и прочел письмо. Вот что в нем говорилось:
«Мой милый! Он приехал. Чуть ты ускакал, как он выехал из чащи. Сначала он сказал, что пробудет три дня, а может, и дольше. Но когда стемнело, он стал точно лиса или волк и начал ходить взад и вперед, и все смотрел и слушал. И скоро сказал, что уедет до зари в самое темное и глухое время. И еще он как будто заподозрил, что я ему неверна. И глядел на меня так странно, что я очень испугалась. И я клялась ему, что я люблю его, что я — только его Тонья. Под конец он сказал, что я должна доказать, что я ему верна. Он думает, что вокруг моего дома спрятались люди и его убьют, как только он сядет на лошадь. И он говорит, что перехитрит их, а для этого оденется в мою одежду, в мою красную юбку и синюю кофту, а голову покроет коричневой мантильей, и так ускачет. Но он говорит, что сначала я должна буду надеть его одежду, его pantalones,[12]его camisa[13]и шляпу и проскакать на его лошади от дома до большой дороги у брода и назад. Это нужно, чтобы он увидел, верна ли я ему и не ждет ли его засада. Мне очень страшно. Это будет за час до зари. Приезжай, мой любимый, и убей этого человека, чтобы я стала твоя Тонья. Не пробуй захватить его живым, а сразу убей. Теперь ведь ты знаешь, что по-другому нельзя. Ты должен приехать поскорее и спрятаться в сарае, где повозки и седла. Там темно. На нем будет моя красная юбка, синяя кофта и коричневая мантилья. Посылаю тебе сто поцелуев. Приезжай обязательно и стреляй сразу и без промаха.
Только твоя Тонья».
Сэндридж тут же сообщил солдатам деловую часть послания. Они начали было возражать против того, чтобы он ехал один.
— Мне не нужна помощь, — сказал лейтенант. — Девушка поймала его в западню. И можете быть спокойны, меня он не опередит.
Сэндридж оседлал коня и поскакал к Волчьему Броду. Он привязал солового среди густых зарослей над рекой, вынул винчестер из чехла и осторожно подкрался к хижине Переса. Луна была на ущербе, и ее висящий высоко в небе серп то и дело застилали рваные молочно-белые облака, которые ветер гнал с Мексиканского залива.
Сарай был словно нарочно построен для засады, и Сэндридж благополучно забрался в него. В черной тени навеса перед хижиной он различал силуэт привязанной лошади и слышал, как она нетерпеливо бьет копытом по утоптанной земле.
Прошло около часа, но вот, наконец, в дверях хижины показались две фигуры. Первая, в мужском костюме, быстро вскочила на лошадь и пронеслась мимо сарая в сторону брода и поселка. Вторая фигура, одетая в юбку и кофту и с мантильей на голове, вышла на слабый лунный свет, глядя вслед удаляющейся лошади. Сэндридж решил не дожидаться возвращения Тоньи — вряд ли ей будет приятно присутствовать при том, что сейчас произойдет.
— Руки вверх! — крикнул он, выскакивая из сарая и вскидывая винчестер.
Тот, кого он окликнул, быстро повернулся, но рук не поднял, и лейтенант всадил в синюю кофту одну за другой три пули. А потом еще три: когда имеешь дело с Козленком Франсиско, лишняя предосторожность не помешает. Но с десяти шагов промахнуться трудно даже в неверном свете ущербной луны.
Выстрелы разбудили старого пращура, спавшего в хижине на своем одеяле. Он приподнял голову, и тут снаружи раздался вопль невыносимой боли или душевной муки. Ворча на неугомонность нынешних людей, старик поднялся с пола.
В хижину ворвался бледный как смерть высокий человек в красном. Рукой, дрожащей, точно камышинка на ветру, он снял с гвоздя фонарь, а другой рукой развернул на столе какую-то бумагу.
— Посмотри на это письмо, Перес! — закричал он. — Кто его писал?
— Ah dios![14]Да это сеньор Сэндридж! — прошамкал старик, подходя к столу. — Pues,[15]сеньор, это письмо написал El Chivato, как его называют, дружок Тоньи. Говорят, он плохой человек. Но откуда мне знать. Он написал, когда Тонья заснула, и вот эта моя старая рука отдала письмо Доминго Салесу, чтобы он отвез его вам. А в письме написано что-нибудь плохое? Я ведь совсем старый, и я ничего не знал. Valgame dios![16]Наш мир — сумасшедший мир, а выпить в доме нечего, ни капли нет.
Но Сэндридж не ответил. Что ему оставалось? Только выбежать из хижины и броситься ничком на землю рядом со своей колибри, чьи перышки замерли в вечном покое. Он не был кабальеро и не разбирался в тонких нюансах мести.
А в миле оттуда всадник, совсем недавно проскакавший мимо сарая, хрипло и фальшиво затянул песню, которая начиналась словами: