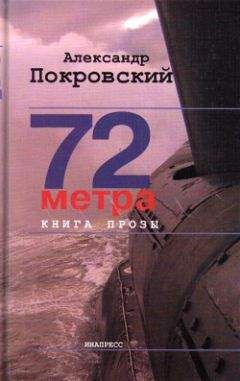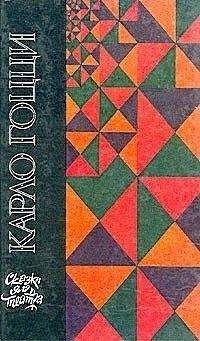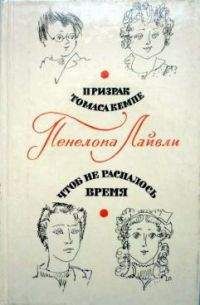Он чуть не добавил «Красивый сам собой» – но вовремя спохватился. Ему опять стало хорошо. Это «хорошо» накатывало на него волнами, и сейчас он был просто рад за себя, за Иванова, за окружающую среду, опять за себя, за тетку Марию, как будто привез ей не гроб, а кусок золота И вообще, чем дальше от флота, тем больше он испытывал за него гордость, гордость за нашу боеготовносгь, ощущал прочные узы родства…
– Что еще… документы, фотографии – вот!
– Слышь, милок, – засомневалась тетка Мария, – а вроде… это и не Мишка вовсе… Иванов – то… я его маленьким помню, после не видала… позабыла уже, а волосики у него вроде черные были, да и курносый он, а этот какой-то… лысый, что ли?
Дитя флота мгновенно приехало на землю. Капитана прошиб крупный пот, все вокруг промокло и стало гнусным.
– Да ты что, мать! – Земля уверенно поехала из-под ног. – КАК НЕ ТОТ?!
– МАТЬ!!! – заорал он, вложив в этот крик все свои раны, отчаянье, цинк, бригадира, дорогу, черт-те что… – Мать! Это ж не мальчик кудрявый, это ж… мужчина, и потому он… эта… под водой, подводник он, мать, подводник, а там не то что на себя, на лошадь не будешь похож!
– Ну тогда ладно… конечно… чего уж там… это я так, – быстро согласилась, испугавшись его, тетка Мария и виновато уставилась под ноги.
Бородатый с ходу понял, в чем затор.
– Вылитый Мишка, – он тоже испугался, что поминок не будет и этот сейчас подхватит гроб и поминай как звали, – вылитый. Я его, мерзавца, вот с такого возраста, – он отмерил сантиметров двадцать, – знаю. Вылитый.
– Ну вот! – вырвалось у капитана. К нему сразу вернулась ушедшая было куча здоровья. – Да-а-а, ну ты, мать, даешь! Мишку не узнать, а? Да-а-а! – теперь ему опять стало хорошо, даже как-то молодцевато стало, раскудрись оно провались!
– Ну ладно, граждане, – махнул рукой куда-то в сторону капитан, – вам туда, а мне – обратно. Извините, если что…
– Ну нет, милый, ты чего эта? – бородач встал рядом. – Привез и давай мотаем? Вам, значить, туда, а нам отсюда, так, что ли? А поминки? А народ? Не пустим! – он вдруг взял капитана под локоток. Рука у деда была деревянная, и капитан понял – точно, не пустят.
– Так… флот же тоже ждет… боевые корабли-и-и, – замямлил он.
– Подождет, не обломится, – обрубил бородач, – народ тебя ждет. А мы тебе справку заделаем… печать… вроде ты у нас приболел, что ли, – борода так захохотал, что какая-то впереди крадущаяся тетка с кошелкой присела, дернула головой, заверещала: «Милиция!» – и мотанула куда-то совсем.
Действительно, все было готово. С Ивановым разделались в момент. Никто так и не вспомнил, был ли он черным или, может, сразу лысым. Праздничный стол раздался в осеннем великолепии. Это был какой-то ведерный край: в середине стола стояла такая ужасная бутыль самогона, такой величины и прозрачности, что сквозь нее была полностью видна высоко поднятая табуретка.
За столом сидели старики и старушки, празднично убранные. На стариках так горели ордена и медали, что стояло сплошное сияние. У одного векового деда с серебряной в пояс бородой, кроме всего прочего, было еще четыре Георгиевских креста.
Через двадцать минут за столом все были свои. Старики с интересом рассматривали Мишкины медали за десять и пятнадцать лет безупречной службы. Они передавали их друг другу, и каждый обязательно переворачивал и читал вслух.
– Да-а-а. Нам такие не давали. Они теперь вон какие. Молодца, Мишка, молодца, не посрамил, да-а-а…
Вскоре капитан решил, что ему нужно что-то сказать, а то через пару минут – он так прикинул – сказать он уже ничего не сможет, через пару минут он уже сможет только закивать это дело. Он встал и сначала бессвязно, а потом все лучше и лучше начал говорить про флот, про море, про Мишку, которого совсем не знал, и чем больше он говорил, тем больше ему казалось, что он говорит не про Мишку, а про себя, про свою жизнь, про службу, про флотское братство, которое, гори оно ясным пламенем, все равно не сгорит, про Родину, про тех, кто ее сейчас защищает и, в случае чего, не пожалеет жизни, про священные рубежи…
– …Пусть у них все будет хорошо, – голос капитана звенел в наступившей тишине, – пусть они не горят, не тонут, пусть им всегда хватает воздуха; пусть они всегда всплывают; пусть их ждут на берегу дети, любят жены, их нельзя не любить, товарищи, их нельзя не любить! – И так у него получалось складно и гладко, и, может быть, в первый раз в жизни его так слушали, может быть, в первый раз в жизни он говорил то, что думал; и у людей блестели на глазах слезы, может быть, в первый раз в жизни с ним такое происходило… У него вдруг перехватило горло, он запнулся, махнул рукой; все задвигались, а какая-то тетка, как и другие, наполовину не понявшая, но видевшая, что человек мается, схватилась ладонью за щеку и забормотала:
– Ох, мамочки, бедные вы мои, бедные…
Пир шел горой. С капитаном все хотели поцеловаться. Особенно не удавалось вековому деду.
– Гришка! – прорывался он. – Язви тя, ты что, зараза, второй раз лезешь? А ну брысь!
Громадный Гришка лет шестидесяти смутился и пропустил старика.
– Ну вот, милай, ну… дай я тебя поцелую!
Потом пели морские песни: «Славное море – священный Байкал», «Варяг»; капитан тут же за столом обучил всех песне «Северный флот не подведет»…
Вскоре его отнесли на воздух, надели шапку и усадили на лавочке. Он сидел и плакал. Слезы текли по небритому еще с вагона лицу, собирались на подбородке и капали в жадный песок. Он говорил что-то и грозил в темноту – видно, что-то привиделось или вспомнилось что-то свое, известное ему одному.
Горе сменилось, теперь он хрипло смеялся, мотал худой головой и бил себя по колену; потом повторил раз двадцать: «Помереть на флоте – ни в жисть», – упал с лавки, улыбнулся и заснул.
Его подобрали и отнесли в дом, чтоб не застудился.
Капитана отпустили через неделю. Он всучил-таки тетке Марии оставшиеся деньги, прибавив от себя. Тетка смущалась, махала руками, говорила, что не возьмет, что Бог ее за это накажет.
Его долго вспоминали, желали ему через Бога здоровья, счастья в личной жизни и много детей.
А вскоре после этого случая в дом к тетке Марии ворвался кто-то в огромной черной шинели, схватил ее и затискал.
У тетки остановилось дыхание, она узнала Мишку, курносого, черноволосого, как в детстве…
Она вяло отпихнулась от него, села на случившийся табурет и замерла. Она не слышала, что Мишка орал. Лицо ее как-то заострилось, она впервые почувствовала, как бьется ее сердце – бисерной ниточкой. Губы ее разжались, она вздохнула: «Бог наказал», – мягко упала с табурета на пол и умерла.
На деревне говорили: «Срок пришел». А вскрытие показало, что на момент смерти она была совершенно здорова.
Были поминки. Мишка, которому рассказали, что он вроде бы помер, напился и пел в углу; остальные пели «Варяга», «Славное море – священный Байкал» и «Северный флот не подведет».
Первая часть мерлезонского балета
Что отличает военного от остальных двуногих? Многое отличает! Но прежде всего, я думаю, – умение петь в любое время и в любом месте.
К примеру, двадцать четыре экипажа наших подводных лодок могут в мирное время в полном уме и свежем разуме в минус двадцать собраться на плацу, построиться в каре и морозными глотками спеть Гимн Советского Союза.
А в середине плаца будет стоять и прислушиваться, хорошо ли поют, проверяющий из штаба базы, капитан первого ранга.
И прислушивается он потому, что это зачетное происходит пение, то есть пение на зачет.
И проверяющий будет ходить вдоль строя и останавливаться, и, по всем законам физики, чем ближе он подходит, тем громче в том месте поют, и чем дальше – тем затухаистей.
Для некоторых будет божьим откровением, если я скажу, что подводники могут петь не только на плацу, но и в воскресенье в казарме, построившись в колонну по четыре, обозначая шаг на месте.
Это дело у нас называется «мерлезонским балетом».
– На мес-те… ша-го-м… марш!
И пошли. Раз-два-три… Раз-два-три… Раз-два-три…
– Идти не в ногу…
Конечно не в ногу. А то потолок рухнет. Обязательно рухнет. Это же наш потолок, в нашей казарме… всенепременнейше рухнет… Раз-два-три… Раз-два-три…
Так мы всегда к строевому смотру готовимся, к смотру с песней; маршируем на месте и песню орем. Отрабатываемся. Спрашиваем только:
– Офицеры спереди?
Нам говорят:
– Спереди, спереди, становитесь.
Становимся спереди и начинаем выть:
– Мы службу отслужим, пойдем по домам…
– Отставить петь! Петь только по команде!
Раз-два-три…
Правофланговым у нас рыжий штурман. Он у нас ротный запевала. Он прослужил на флоте больше, чем я прожил, уцелел каким-то чудом и на этом основании петь любил.
Как он поет, это надо видеть. Я видел: лицо горит, на нем, на лице, полно всякой мимики; эта мимика устремляется вверх и, дойдя до какой-то эпической точки, возвращается вниз – ать-два, ать-два! Глотка луженая, в ней тридцать два зуба, из которых только тринадцать своих.