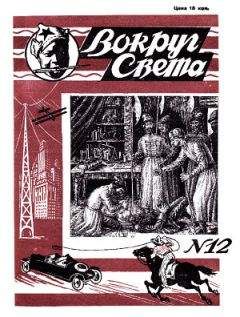Вот из этого подвала Граф выползал ранним утром и гордо нес свои яйца, свисающие из прорехи никогда не снимаемых штанов, по направлению к винной будке. Там годами собиралась одна и та же компания, к запаху друг друга они до того привыкли, что даже не умирали. Словом, это был клуб, почти, как у английских лордов.
Каждый раз Граф старался напиться так, как будто-то был последний день в его жизни. И это ему удавалось. Потому что стакан шмурдяка тогда стоил двадцать копеек, а у Графа было удивительное дарование, которым он временами существовал. Не имея каких-нибудь затрушенных часов, он тем не менее угадывал время с точностью до сантиметра. Но вот однажды секрет Графа погорел вместе с его безалаберным характером.
В полдень, когда Граф тихо-мирно лежал себе в тени будки, на своем привычном месте в выбоине, куда стекалась всяческая жидкость, что облегчало ему летний зной, до него подошел известный на хуторе балабол по кличке Акула, который ничего не умел делать, кроме пакостей и денег. Он приволок за собой какого-то приезжего и стал демонстрировать ему одесский феномен, которого нет ни в одном путеводителе. И у этого приезжего Граф играючи выкатал стакан вина, тут же назвав точное время.
Тогда приезжий, азартный до потери пульса и краснокожий, как индеец, пообещал ему целую бутылку вина, если Граф раскроет секрет, как он это делает. Но Граф он и под будкой Граф! С достоинством обладателя не одного фамильного замка, экс-капитан заявил приезжему: если он хочет познать необычное явление природы, то должен лечь рядом с Графом в его персональную ванну. Приезжий явно колебался, хотя был под хорошей банкой. И балабол Акула, мерзко хихикая, подлил масла в этот огонь неукротимого человеческого стремления к познаниям, сказав, что ставит бутылку «Алиготе» за семьдесят семь копеек, если приезжий пойдет на такой подвиг. Приезжий тут же рухнул в лужу, будто ему прострелили ноги. И с ходу передал Графу честно выигранную бутылку. Слово Графа оказалось нерушимым, как дружба всех советских народов. Он сказал спорщику: часы, что висят на стене за три дома от лужи, видны только из нее и больше ниоткуда. И гордо уснул, трепетно прижимая к груди бутылку, как будто это было знамя его родного полка.
С тех пор уже никто не выставлял Графу вино за точно угаданное время и он где-то в глубине души стал жалеть, что продал такую жгучую тайну всего за одну бутылку. Так что теперь Граф мог рассчитывать только на военную пенсию и квартиранта Позднякова, который запретил ответственному квартиросъемщику появляться ближе двух кварталов до родной хаты. За что соседи были до того благодарны Борису Филипповичу, что даже не заметили, чего там произошло и когда загорелось. Менты прекрасно знали, кому принадлежит пылающий шедевр архитектуры, который несколько раз снимали в художественных фильмах о тяжком положении в негритянском гетто. Но они почему-то не захотели лечь в лужу рядом с Графом, чтобы выяснить, в который час его облезлая дверь пошла синим пламенем. А когда разглядели, какой контингент отдыхает вперед ногами под этой дверью, сразу поняли, что кто-то убавил им добрый шмат работы по розыску опасных рецидивистов. И дело в конечном итоге выглядело так, с понтом бандитов выследила при попытке к бегству наша мужественная ментарня.
А Борис Филиппович Поздняков поселился в громадном подвале, том самом, что сегодня носит кличку кафе «Меридиан».
* * *
И вот однажды вечером, когда доцент Маушанский кончил пугать из телевизора империалистической Америкой и своей собственной мордой, Поздняков решил сделать коллеге по увлечению ответный подарок. Поэтому он свистнул своим ребятам, которые после того, как Граф мог претендовать только на прописку под будкой, не отходили от Позднякова дальше на три метра. Даже если к нему залетала какая-то дама проверить техническое состояние антикварной раскладушки. Он свистнул ребятам и они приблизились в упор.
— Послушайте, Макинтош, — зевнул Поздняков в сторону Жоры Макинтоша, который с трудом помнил свою настоящую фамилию в отличие от очень многих ментов, — я хочу сделать радость нашему другу, коллекционеру Паничу. Так, чтоб изумление застыло на его морде между бровями и позвоночником.
— Боря, вы же знаете, что Панич — сын Я Извиняюсь. Папаша может перенервничать, если его ребенка найдут где-то у том виде, на который он всю жизнь нарывается, — спокойно заметил Макинтош.
— Жора, я даже не хочу слушать всякой уголовщины. Мне надо, чтобы Панич после этого мог радоваться жизни и ходить без костылей, хотя он похож на папу. Вы меня понимаете, Макинтош?
Макинтош понял Позднякова без второго слова. Но хорошо сказать: сделать радость Паничу так, чтоб у него все осталось целое и Я Извиняюсь не перенервничал. Это же сложная задача, на уровне ЦК. Но, учитывая, что Макинтош, в отличие от всего советского народа и прогрессивного человечества, не ожидал от Цеки чего-то дельного, он рано утром, надев сверху мозолей свои сандали, пошел к тому, кто мог по созданию разнокалиберных пакостей составить конкуренцию любой Цеке в мировом масштабе. Ведь недаром в конце концов специалист с гордостью носил не только живот перед собой, но и прозвище Говнистый.
— Здравствуй, Ирка, — сказал Макинтош жене Говнистого, — а где делся твой единоутробный супруг?
— Ночью поперся на море ловить, что в нем еще не подохло, — ответила чистую правду Ира и с любовью посмотрела на Макинтоша. Если бы не было на свете Говнистого, она отдала бы свое сердце только Макинтошу. Потому что свой первый срок Жора намотал из-за нее.
Давным-давно, когда румыны, итальянцы и немцы не одесского происхождения драли когти из нашего города, увидев в бинокли морды лошадей генерала Плиева, по улицам валялось столько всего разного интересного, что этого не собирали только придурки. А Жора с детства придурком не был, хотя соседи часто именовали его только таким словом.
И вот через пару лет после того, как отменили карточки, сидит юный Жора, тогда еще не Макинтош, у себя на Привозной в одних сатиновых черных трусах, пять сантиметров ниже колена, и спокойно кушает обед из трех блюд. Гороховый суп, на второе — горох, а на третье, — сами понимаете, ничего, кроме увертюры в собственном исполнении. И тут к нему вваливается Говнистый со своей невестой Иркой. Жора рассматривает на свои трусы и говорит:
— Извините, я без галстука.
Потом смотрит на Говнистого и видит, что на нем из одежды только собственная шерсть на плечах, а Ирка замотана в газету со статьей о вредителях на самом интересном месте. Жора был до того сообразительным, что сразу понял — это не новая мода так ходить вечером среди города. Он кинул в рот последнюю ложку гороха и спокойно спросил:
— На какой улице вы имели счастье дышать перед сном?
Говнистый честно признался, что они дышали на Канатной. Тогда Жора дал им кое-что из своего гардероба и вскользь заметил, чтобы они спокойно сидели в окне его хаты.
А на Канатной перекуривают мальчики, взявшие Говнистого и Ирку на гоп-стоп, и спокойно ждут, чьи еще трусы достанутся им такой вот фартовой ночью. Этакие себе Робин Гады из парка Ильича. И тут прямо на них из темноты выплывает тухлый фраер, в новом макинтоше, шикарных шкарах «джимми» и больше того, в шляпе. Самым естественным образом они подходят до него с писками в руках и культурно просят разрешить померить макинтош. Тот, не обращая внимания на холодную погоду, расстегивает пуговицы макинтоша и ребята сразу начинают понимать, что в их профессии бывают неприятные моменты. Потому что если у фраера на пузе вместо рыжих бочат на цепочке висит «шмайсер» на кожаном ремне, это о чем-то таки-да может сказать.
И ножи посыпались на землю так же быстро, как и зубы у того, кто стоял поближе к стволу и попытался из-за своей дефективности доказать преимущество холодного оружия над огнестрельным. Поэтому по команде Жоры, ставшего после той прогулки Макинтошем, ребятам дружно сделали вид, что рубашки и трусы им сильно мешают на теле.
А потом Жора погнал их у таком виде с Канатной до Привозной, хотя погода на улице была далеко не африканская. Один из ребят, правда, попытался поближе разглядеть то, что в свое время свободно валялось на улице, а теперь висело у Жоры на шее, и Макинтошу пришлось перенервничать. Парень лег посреди мостовой, безо всякого риска подцепить дополнительную температуру к остывающему организму, а все остальные в дружном виде маршировали взад-вперед перед окном Жорыной хаты, где торчали среди окна головы Говнистого и Ирки.
Вскоре после этого бенефиса Ирка вышла замуж за Говнистого, а Макинтош в стрижке под Хрущева отправился на комсомольскую стройку, которая научила его очень многому, в основном, отвращению к труду у любом виде.
Сильно постаревшая Ирка с любовью смотрела в спину Макинтоша, уходившего в сторону Привоза. Жора нашел Говнистого сразу. Говнистый держал в двух руках три связки бычков, а какая-то мадам с соломенной шляпой над подбитым глазом задавала ему научные вопросы.