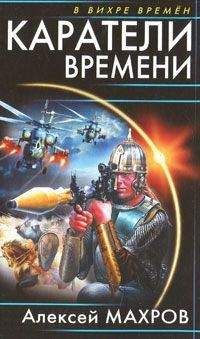— Очнулась! — вслед Матрене, буквально на ее «…лась!», но все ж — таки попозже, охнула Василиса. — Разсонмилась, — подняла брови Мария.
А Парашка крикнуть не посмела, но раззявила рот и поспешно спихнула в него извергнутую из носа черную от сажи козявку.
И все кинулись к одру. Причем Парашка, чья дислокация на лавке у двери оказалась самой выгодной, случилась возле ложа первой, за что и была крепко торкнута в бок Матреной.
Жены сидели в Феодосьиной горнице с вечера, и вот, к третьим петухам, Феодосьюшка очнулась.
К слову сказать, Феодосья пришла в себя ото сна уже давно. Но, в первый же миг, когда все ее тело еще недвижно сонмилось, и грезились, подрагивая рябью ускользающих снов, веки, и лишь разум раскрылся яви, Феодосью ожгло воспоминание о давешних событиях, отступивших на время её успения. Но, теперь, вместе с пробуждением, ужас неразрешимых обстоятельств обрушился на неё, как рухнул прошлым летом подгнивший студенец на холопа Стеньку, забравшегося его вычерпать. И, придавленная явлениями вчерашнего дня, Феодосья тихо лежала, словно пытаясь недвижностью обмануть действительность, как обманул прошлое лето один тотемский мужик медведя, притворившись мертвым. Феодосья даже придержала дыхание: вдруг да пройдет горе-сухота стороной?! «А может, все сие было сон?» — уговаривала она себя, не открывая глаз, дабы отдалить момент, когда таки придется проснуться и принять весь ужас свершившегося с Истомой, и, стало быть, и с ней, Феодосьей, во всю его дьявольскую силу. Но, как это бывает, когда в важный момент своего живота человек вдруг отвлекается на сущую глупую мелочь, вроде шевелящего усиками на травине возле глаз мураша: «…вот, живет же муравей всего одно лето и не страдает от сего, почему же мне мало прожитых своих сорока лет?» — так и Феодосья, казалось бы, придавленная пленением Истомы, ни к селу, ни к городу вдруг огласила ошибку бабы Матрены, обозвавшей астрономию, сиречь космографию, «вострономией».
Феодосью дружно усадили в подушки. Парашке хоровым криком велено было бежать за ушатом для сцы. «Да передай пищное нести, дура!», — крикнула ей вослед Мария, которой алкалось сделать какие-либо хозяйственные распоряжения, но не хотелось покидать расположения возле одра сродственницы, дабы не пропустить каковых ни будь интересных событий.
Когда, еще таясь видом сна от стоящих, вернее сказать, сидящих на страже сродственниц, Феодосья услыхала про северное сияние, под веками сразу вскрутился давешний крест, который сперва, было, приняла она за праздничную карусель. «Значит, сие было сиверское светолитие, а не Истомушкино нательное распятие? — удивленно подумала Феодосия. И вдруг ее ожгла радостная мысль. — Что, как и волков не было? И окровавленный бобер в щели острога — лишь тяжкий бред? Вопросить бы Матрену…»
И именно в сей миг Феодосья встряла с астрономической поправкой в баяние повитухи.
Сродственницы наперебой издавали ликующие возгласы разнообразного звучания, выражающие, однако, единую мысль, мол, слава тебе, Господи, живая! О том, что произошло с Феодосией, как она оказалась ночью на улице, никто не вопросил, ибо Матрена все уж авторитетно разъяснила. По единодушно принятой версии повитухи, Феодосьюшка пошла одна-одинешенька к вечерней службе в Спасо-Суморин храм. Почему одна? Холопы поганые, ленясь выходить в мороз, отвертелись разными, якобы важными, делами от робких просьб молодой хозяйки сопроводить ея. (Холопы, попавшиеся под руку, были, кстати, уж выпороты). А се… Пошедши она одна. Отстояла службу. Вышла уж в сумерках. И на подходе к своему концу услыхала вой волков. Побежала Феодосьюшка со всех белых ноженек другой улицей, дабы обогнуть кровожадную стаю, но заплутала в потемках. А волки уж совсем подступают!.. В протяжении этого рассказа, сопровождаемого повитухой яркими примерами задирания волками младенцев и девиц, Василиса утирала набегавшие слезы, а Мария хваталсь дланями то за одну, то за другую соблазнительную для кровожадного зверья часть тела, схороненную под тучным навоем рубах и душегрей.
Между тем, обихоженную Феодосью вновь водрузили на ложе, покрыли ея шерстяным покрывалом, а на него угнездили обширную миску каши с изюмом, малиной и медом с воткнутой серебряной ложкой. Преодолев внезапно подступивший легкий набег тошноты, Феодосья принялась за кашу. Есть ей не хотелось, но она надеялась переключить внимание Матрены от вопросов ея, Феодосьиного, здоровья, к вопросу о волках. Были, али привиделось? А коли привиделось, то и все остальное — сон? Пока Феодосья размышляла, как бы половчее подвести беседу к ночным событиям, Матрена с удовольствием возобновила баснь о заблуждениях отцов Логгина и Нифонта, а так же тотемских баб относительно пестротных огневых всполохов, заливавших тотемское небо. Надобно сказать, что северное сияние было в Тотьме редким явлением. Даже Матрена, с ее обширным кладезем разнообразных событий, не могла припомнить и слыхом не слыхала ни об каких сиверских светолитиях. А посему дугу переливающихся парчевым алтабасом кровавых, золотых и голубых струй разъяснила по-своему. В версии повитухи выходило, что в ночь от мороза расколись небеса.
— Небеса треснули? — недоверчиво переспросили Василиса с Марией.
А Парашка свалилась с лавки, отчего все вздрогнули и сказали:
— Тьфу, щурбан кривоглазый!
— А как же из них ничего не вывалилось? — с набитым ртом воскликнула Феодосья. — Кабы треснули, так в прореху повалились бы звезды, лучи, воды? Ей?
Матрена зело оскорбилась сомнениями жен и некоторое время, тишину которого нарушали лишь легкий постук Феодосьиной ложки об миску да шмыганье Парашки, обидчиво поджимала губы и раздергивала сборки паневы.
— А береза?! — наконец торжествующе воскликнула она. — Береза от мороза раскололась? Аж, сверху до самого комля!
— Сие — да, — согласились Василиса с Марией.
К березе под предлогом расчистки проезда тороватым Изварой Строгоновым уж были спешно посланы два холопа с топорами, каковые и срубили ея подчистую на дрова.
— Да что береза, — нарочно потускнив голос, произнесла Матрена, но по ее ликующему лицу было ясно, что она приберегла некий сокрушительный довод и лишь драматическим образом выдерживала паузу перед тем, как извергнуть самый огненный шар басни. — От лютого мороза в Соляном посаде разорвало новехонький железный котел! Четверых солеваров на месте прибило…
Насчет четверых Матрена прилгла, — лишь одного солевара ранило, но бабы донесли, что — убило насмерть, а повитуха для лепоты словесов вдохновенно приумножила потери в четыре раза.
По докладу Матрены, осколок улетел на колокольню, да там ударил в колокол. Сторож Устин решил, что внезапно сам собой раздавшийся колокольный гул — божественный знак. Взобрался на колокольню, глядь — а небеса-то огнем пышут! Он, что худая тотемская баба, решил, что сие кровавое зарево от дальнего пожара, устроенного татарцами. Да, и вдарил в набат! Да еще орет с колокольни: «Спасайтесь, люди добрые!» Насилу его с колокольни стянули. До сей поры, говорят, сидит в питейном доме, запивает пережитое.
В протяжении рассказа Матрена то заводила руки, указывая траекторию полета котла, то хватала в пясти невидимую елду и вдаряла в колокол, то клевала себя в лоб сжатыми в куриную гузку перстами, изображая скудоумие церковного сторожа Устьки. Но все сии картины были лишь предтечей основного рассказа — о расколовшейся от мороза небесной тверди.
Феодосия слушала, лихорадочно измысливая, как втиснуть в басни повитухи тему волков и их ночных жертв. И уж порывалась было спросить напрямую, но каждый раз осекалась, что тот вор, на котором шапка горит.
— Треснула твердь, аж, до седьмых небес, — крестясь, вещала Матрена.
— А как же хляби не разверзнулись? Дождя не было? — с сомнением вопрошала Феодосия.
— А как же дождю быть, если от мороза все воды застыли? — парировала Матрена. — Лед примерз к тверди. Слава богу, сей ледник не обрушился! Всю бы Тотьму раздавил! Ить мы в эту ночь на волос от погибели были…
Жены вытаращили глаза, дружно повернули головы к образам и перекрестились.
— Слыхала аз, такой ледник свалился на иноверцев в горах Африкии, — красно баяла Матрена.
— А светолитие? Что за сияние на небе было? — спросила Феодосья. — Али звездочки в дыру посыпались?
— А сие был Божественный огонь, — торжественно промолвила Матрена.
— Божественный огонь? — восторженно повторила Феодосья. — Господь нам грешным лучинами светил?
— Лучинами? — усмехнулась Матрена. И свысока, насколько позволял ее малый рост, обвела слушательниц глазами. — Сие лился райский свет! Из самого рая! Но длилось сие чудо не долго, ибо Господь испугался, что в прореху вывалятся на землю ангелы, али другие какие обитатели райских кущ. И содвинул края небесной тверди.