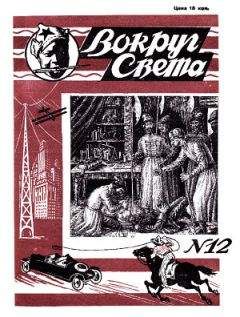Агафонов и Наливайко, решительно выпрыгнувшие из «бобика», знали, ради чего они давали присягу. Хотя, откровенно говоря, в другое время милиционеры просто проехали бы мимо. Но сегодня, как назло, капитан Перегончук отругал их за бездеятельность и еще за что-то. Начальство всегда найдет за что ругать, в крайнем случае, за нечищенную обувь. Вдобавок сейчас везде хозрасчет, а вытрезвитель за счет него существовал всегда, и борьбу с пьянством, несмотря на весь идиотизм, никакой дурак пока не отменял. Именно так «дурак» сказал начальник, отпуская ребят из кабинета. А если приказ командира — закон для подчиненного, то нечего думать об умственных способностях того, кто отдает такие приказы. Хотя Агафонов и Наливайко считали Перегончука не меньшим дураком, чем его непосредственное начальство. Сам капитан думал о своих подчиненных аналогичным образом. И все были друг другом довольны. Поэтому милиционеры сели в машину с твердым намерением исполнить в этот вечер свой долг до конца.
Да, Леонид не мочился у дерева, не валялся у вздувшихся перед асфальтовой скорлупой корней, не пел песни и ни к кому не приставал. Но он был пьяным. Трезвый человек не станет пачкать такое дорогое пальто о мокрое дерево. Так рассудили Агафонов и Наливайко. Пьяный, в дорогом пальто. Иди знай, может спер у кого. Иногда с такого задержания ого-го-го какие дела раскручивались…
— Ханыга? — коротко спросил Леню один из ребят, не надеясь получить утвердительный ответ. Сейчас клиент начнет буянить, обижаться, делать трезвый вид. Нынче все такие говорливые насчет разных свобод. И это даст возможность ласково завести тепленького в машину и отправить по назначению. Разве трезвый будет орать слова из Конституции? Никогда. Это Агафонов и Наливайко знали по собственному опыту, а также со слов капитана Перегончука.
— Художник, — почти твердым голосом произнес Леонид, нащупав более основательную точку опоры.
— Понятно, — добродушно согласился Агафонов. Все они художники. Иногда такое художество сотворят, хоть стой — хоть рядом падай.
— Видать, художник, — подтвердил Наливайко, пристально следя за тем, как Леонид пытается найти на шее удавку галстука со свежим масляным пятном. — Ты, наверно, Репин?
— Ага, Репин, — нагло осклабился пьяный и ехидно поинтересовался. — Автограф дать?
От пьяного можно всего ожидать. Некоторые даже пытаются лезть в драку. Но такого нахальства Агафонов и Наливайко не предвидели. А главное — не смогли стерпеть и осторожно проводили Леню в автомобиль.
— Домой повезете? — благодушествовал Леня, мгновенно разморенный окутавшей его теплотой, от чего начал пьянеть по второму разу.
— В дом родной, — подтвердил Наливайко, врубая скорость.
А Агафонов непродуманно ляпнул:
— Тверезитель.
Леня с достоинством попытался выпрямиться и начал свои рассуждения:
— Что, ребята, жить надоело красиво и вкусно? Везите, везите… Завтра вас всех вызовут. Я вам покажу. Будете знать, кого хватать…
Агафонов и Наливайко на всякий случай усомнились: а может, действительно художник? Сейчас мода такая художником называться кому не лень — и писателям, и этим режиссерам. В прошлый раз наподобие не совсем чтобы пьяного парни из их отделения на улице остановили — и прямиком в дом родной. А тот, оказалось, получил какое-то лауреатство и отмечал его с такими людьми, что начальник по телефону три дня извинялся. А потом называл подчиненных такими словами, которыми их обычно характеризуют клиенты вытрезвителя.
«Ну и шут с тобой!» — подумал водитель Наливайко и без обсуждения острого вопроса с Агафоновым круто изменил маршрут.
— Ты чего? — спросил напарник. Хотя он догадывался, куда собрался гнать Наливайко, но на всякий случай не подавал вида.
— К нам, — раскрыл секрет изменения маршрута водитель. — Пусть начальство разбирается. Вдруг он точно художник?
— Репин? — почему-то хихикнул Агафонов.
— Я художник Репин! — нагло продолжал отстаивать свое право на трезвость Леня. — Меня мир признал!
И попытался что-то вразумительно объяснить, но против его воли из глотки почему-то вырвались слова, многократно слышанные по телевизору:
— Рядовым! На Восточный фронт!
Милиционеры переглянулись. После такого заявления можно было ехать прямо в вытрезвитель без санкции начальства. Но бензин, всего одну канистру на два дня дают, а отделение под боком…
Дежурный вежливо попросил у Лени документы. Леня снова попытался дать автограф. Потому что из всех документов после долгих и мучительных карманных поисков, Леонид в конце концов выудил больничный лист на имя гражданки Сергушиной с печатью роддома. Бумагу эту всунул Леониду один из многочисленных знакомцев, предварительно написав на ней номер своего телефона — именно об этом художник попытался рассказать милиционерам. Однако свои объяснения он заканчивал уже в «телевизоре»: крохотной комнатке, состоящей из трех скамеек и двери с навешенной решеткой, через которую проникал свет лампы со стола дежурного.
Перед тем как мирно заснуть на скамейке, Леонид немного для проформы побушевал, доказывая, что он великий художник. Но привыкшие и не к таким заявлениям милиционеры не обращали на него никакого внимания.
Утром, когда капитан Перегончук печатным шагом проследовал по месту службы, он очень удивился, увидев в «телевизоре» скромный за ночь улов. Судя по модной одежде улова, он был весьма сомнительным.
— Кто вы такой? — поинтересовался капитан, когда Леню доставили в его кабинет, вызволив из телевизионного плена.
— Художник, — твердо отметил Леня.
— Репин? — улыбнулся капитан Перегончук.
— Репин, — спокойно подтвердил Леня.
— Документы есть?
— Нет, но вы позвоните в Союз художников, там подтвердят.
За плечами капитана было не только почти два десятка лет почти безупречной службы, но и профессионализм, нарабатывавшийся ситуациями, из которых он выходил с синяками и шишками. Поэтому Перегончук ничему не удивился, когда голос в телефонной трубке подтвердил сказанное Леней и даже описал его внешность с поправкой на вчерашнее происшествие.
Капитан спокойно поблагодарил за информацию, положил трубку, широко развел руки и искренне улыбнулся, обнажив поредевшую в боях с бандитизмом челюсть.
Провожая к самому выходу Леонида, он доверительно попросил прощения еще раз:
— Вы извините, ребята еще молодые, неграмотные. Я-то ваши картины видел в музее на экскурсии. У нас перед поездом еще два часа было, так туда пошли. Потрясающая ваша картина «Иван Грозный убивает собственного сына».
Леня вышел на утреннюю улицу, позвонил одному из друзей, выслушал нотацию его жены и отправился на выручку. В отличие от художника Репина, его коллеги не являлись членами Союза и их личности в аналогичной ситуаций подтвердить было некому. В вытрезвитель из вчерашней компании не пустили только критика Охапкина. С этим разведчиком идеологического фронта не рисковала связываться даже милиция…
Вот такой рассказ накатал журналист Павлов, потому что человек, который привык гнать пургу всю жизнь, не врать людям уже не может. Так в дурдом художник Репин попал вовсе не из-за этого случая, который, по правде говоря, произошел еще при дорогом Леониде Ильиче, а опять же из-за своей фамилии. Один раз Ленчик напился до такого горизонтального состояния, что его подобрали на улице и заволокли прямо у морг. А ночью Репин почему-то очухался раньше, чем над ним стали играть похоронный марш, сильно лязгая зубами по поводу температуры в этом заведении. Вдобавок изо всей одежды на ноге Ленчика была привязана какая-то бирка, которая плохо его согревала. А когда художник намацал, что лежит на соседнем столе, сразу догнал — с таким контингентом ему пить еще не приходилось. Художник стал барабанить у дверь и орать разные нехорошие слова. И это продолжалось пока на его вопли не приканал сторож в том состоянии, в каком Репин переставал закусывать. Он открыл Ленчика и спокойно спросил: какого хера ему тихо не лежится? А художник вместо того, чтобы дать сторожу автограф, сбивает его с ног и гонит со своей биркой на ноге куда подальше. Сторож орет ему вслед, чтоб он стоял, потому что кто будет отчитываться за такую материальную ценность, когда взойдет солнце. А Ленчик все равно не останавливается и бежит, не разбирая дороги, по которой спокойно светит фарами впереди себя патрульная машина. Она тормозит возле этого спортсмена, рекламирующего не «Адидас», а советский образ жизни, и спрашивает: откуда он взялся у таком импортном виде? Ленчик честно отвечает, что он, по всему видно, покойник, но в морге ему почему-то не лежится. И добавляет, что он художник Репин. После этого заявления живой художник Репин быстро очутился в том самом месте, где при желании можно пообщаться и с Наполеоном. Он сидит там несколько дней, после чего решает, что пить прежними темпами с такой фамилией просто противопоказано. И думает по этому поводу перейти на фамилию жены. Но супруга быстро отговорила уже снявшего бирку с ноги Ленчика от такого варианта. Потому что у его мадам фамилия Пикас, и прицепив ее до своего паспорта, Репин имеет шанс еще раз побывать на Слободке вместе с манией величия.