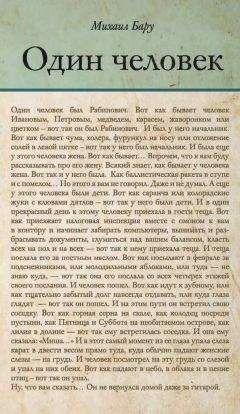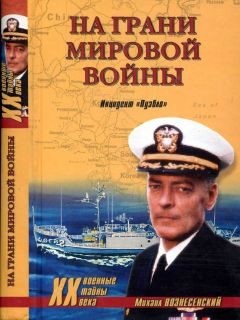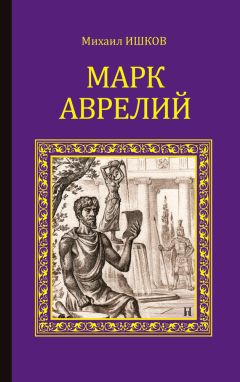Воспоминания о жизни в детском саду, куда меня отдали года в три или четыре, оторвав от няньки, не очень радостные. Мы с нянькой, у которой я рос до этих пор, переживали. Она не хотела меня отдавать, да и я не хотел отдаваться. К своим трём с лишним годам я довольно неплохо отличал даму от валета и мог во время игры в домино вовремя крикнуть «рыба». А может, и не вовремя, но с чувством. Что мог дать мне детский сад? Тем не менее родители решили меня приобщать к жизни в коллективе. Они опасались, что я вырасту букой. Букой я вроде не вырос, но привычки к коллективу у меня так и не завелось.
Детский сад примыкал к заводу, на котором работал папа. Район этот назывался Свисталовка. Не знаю почему, может потому, что рядом была железная дорога и оттуда постоянно доносились свистки маневровых паровозов и тепловозов, и кто-то недовольным голосом кричал: «Десятый! Какого… вы до сих пор на седьмом пути?! Быстро в депо!», а может, и потому, что местные жители были соловьями-разбойниками.
Само здание детского сада когда-то было купеческим особняком. Это был старинный деревянный дом. С резьбой по наличникам и даже башенкой. Там была большая парадная зала, в которой стояло пианино. На стене висела огромная репродукция шишкинского «Утра в сосновом лесу». Впрочем, в то время репродукций для меня не существовало. Сплошные оригиналы. Это сейчас заранее считаешь всё подряд репродукциями и страшно удивляешься, что вдруг — и оригинал. А тогда… Кроме «Утра в сосновом лесу» висел портрет того, кого дети той страны, в которой я родился, путали то с зайчиком, то с северным оленем из анекдота. Однажды в день рождения этого зайца с оленьими рогами мне пришлось читать стихи, ему же и посвящённые. От волнения я, конечно, всё позабыл и решил смыть позор обильными слезами… Сейчас-то я бы ни за что не заплакал, несмотря на то, что теперь не помню не только этих, но и многих других стихов.
В зале устраивались и «обычные» торжественные мероприятия, по более нам понятным и человеческим поводам, с приглашением родителей. И ещё мы там занимались зимой зарядкой и разучивали песни и стихи всё к тем же торжественным мероприятиям. Аккомпанировала нам старушка, которую звали Милица Николаевна. Конечно, мы, неучи, звали её Милицией. Закладывала она за воротник довольно основательно. Впрочем, не столько за воротник, сколько за нижнюю деку пианино. Ну там, где педали. Она пила одеколон «Сирень». Был такой в крошечных пузырьках и стоил чуть ли не шесть копеек. Странно, но пузырьки эти я хорошо запомнил. Они были прямоугольные, с сиреневой этикеткой и белой завинчивающейся крышечкой. Вот она и бросала их в щель, за эту деку. А потом пианино стало плохо играть. Вызвали настройщика, а он как откроет эту деку, а оттуда как посыплется… Как я теперь понимаю, эту историю наверняка кто-то придумал. Но мы тогда под страшным секретом её друг дружке пересказывали.
Воспитательница наша, Клавдия Владимировна, была женщиной строгой. Я совсем не любил играть в разные коллективные игры на свежем воздухе. Мог просто сесть в сторонке и смотреть, как за забором по улице люди ходят и едут машины. Помню, однажды зимой она велела взять мне санки и просто так возить их, чтобы я не замёрз. Я возил-возил, пока не исхитрился завезти их от неё подальше, за деревья и кусты, а там опять прильнул к забору. Но меня и оттуда извлекли… Тем не менее кое-какая личная жизнь в детском саду у меня была. Я был влюблён в двух сестёр-двойняшек сразу. Нинку и Маринку. И всё не знал, на какой из них жениться. Нинка и Маринка тоже не торопили события, хотя мы уже с ними мерялись целовались в кустах, за верандой. Но если играли, то всегда втроём. Клавдия Владимировна откуда-то была в курсе моих мечтаний. Однажды после обеда она велела встать мне на стул и всем громко сказать — на ком же я буду жениться. Не то чтобы я оскорбился такой постановкой вопроса или разревелся. Как раз нет. Я задумался…
Уж Нинка и Маринка повыходили замуж, уж и развелись и снова повыходили, а я всё… Иногда мама мне говорит, что встречает маму Нинки и Маринки. Когда та спрашивает обо мне, то всегда говорит: «Ну, как там дела у зятя?» Да, чуть не забыл. Ещё тогда, в саду, Нинка и Маринка однажды пришли в сад в новых белых шубках. Шубки были овчинные. И почему-то невыносимо пахли рыбьим жиром. Подойти было нельзя. Пришлось их разлюбить. И шубки, и Маринок.
Перед праздниками Клавдия Владимировна говорила нам: «Дети! Передайте своим родителям, что я люблю духи «Красная Москва». Мы говорили, и родители покупали высокие и круглые красные коробочки с «Красной Москвой». В них был стеклянный пузырёк в виде Спасской башни. Вручали духи воспитательнице дети. Мы подносили духи, Клавдия Владимировна нас целовала, немедленно открывала пузырёк, шумно нюхала, едва ли не до половины втягивая его в свой огромный нос, а потом… потом расстёгивала свой белый халат и часть духов отливала за вырез платья. Вот такой был ритуал. Не хуже и не лучше множества других ритуалов. Кстати, Клавдия Владимировна была дамой крупной, с таким бюстом, что упади случайно пузырёк в декольте — его не один час искать пришлось бы. Или это мне тогда так казалось Неужели уже тогда…
Меня часто забирали домой позже всех из сада. Я оставался со сторожем. Рядом была заводская лесопилка, и мы ходили к щелям в заборе смотреть и слушать, как визжали поросячьим визгом циркулярные пилы. В воздухе носились тучи мелких и пахучих чихательных опилок. У сторожа было ружьё. Двустволка. И он мне разрешал её подержать. А может, и не было никакого ружья. Может, оно было в чьём-нибудь другом детстве. Не помню. Столько лет прошло. Но сторож был. Это точно.
Я страшно завидовал тем детям, которых забирали первыми. А иногда случалось такое счастье, что сразу после обеда приходил кто-то из родителей и нянечка кричала: «Петров! Быстро одеваться — мама пришла». За Петровым часто приходили раньше положенного. Какое-то время я даже мечтал превратиться в Петрова, чтобы и меня мои родители уводили пораньше из сада. Впрочем, у Петрова уже тогда были таких размеров уши, что и до сих пор мои существенно меньше. А ещё веснушки, из-под толстого слоя которых сам Петров был еле виден… Так что я, прикинув все плюсы и минусы этого опасного мероприятия, передумал превращаться.
Тем, кто оставался в саду, предстояла пытка послеобеденным сном. Засыпать приходилось с большим трудом. Взрослым легко засыпать — они умеют считать овец или облака. А когда ни считать, ни писать… Мало того, засыпающий ребёнок должен был, согласно приказу воспитательницы, «лечь на бок, положить руки под голову и закрыть глаза». Верчение на кровати, хихиканье и перешёптывание строго пресекались. Я был упорный незасыпанец. Лежал-то я тихо и руки держал, где велели, но глаз не закрывал. Рассматривал трещины в штукатурке, остатки гипсовой лепнины, чудом сохранившейся ещё с дореволюционных времён, печные заслонки затейливого литья, дубовый паркет, который регулярно натирали до блеска нянечки жужжащим полотёром, выходившие в сад высокие стрельчатые окна с огромными подоконниками и ветви огромных лип, которые, должно быть, ещё и к купеческим детям заглядывали в комнату, когда они не хотели засыпать. Никогда не мечталось с таким удовольствием, как тогда. Только одно мешало — запахи приготовляемой на кухне пищи. Запах каких-нибудь щей или горохового супа мог разрушить любой, даже самый неприступный воздушный замок.
Я очень хорошо запомнил эти интерьеры. Потом, много лет спустя, читая самые разные книжки, я представлял себе, что действие происходит именно в этой обстановке. И романы Дюма и пьесы Уайльда — всё разыгрывалось в декорациях моего детского сада. Увы, запахи я запомнил тоже хорошо. И когда миссис Чивли из «Идеального мужа» так изощрённо шантажировала сэра Роберта Чилтерна в гостиной его дома на Гровнер-сквер… Так вдруг некстати в эту гостиную вползал запах вчерашних детсадовских щей…
* * *
Одним из самых больших удовольствий в те годы был приезд передвижного кино в наш двор. Тогда слово двор ещё не было синонимом парковки. В нашем дворе стояли скамеечки, как в кинотеатре, и была сколочена сцена из досок. Поздней весной и летом, по выходным, как начинало темнеть, крутили разные фильмы. Над сценой натягивали экран. Но… перед скоромным было постное. Этим постным был лектор общества «Знание». Кратенько, минут на сорок, в цифрах и фактах, как говорил карнавальный Огурцов, нам рассказывали о международном положении, о видах на урожай зерновых, а то и зернобобовых, о том, что в этом году район по яйцам так вырвался вперёд, что оторвался от них напрочь, ну, и, конечно, о жизни на Марсе. Иногда лектора заменяли коллективы местной и заезжей художественной самодеятельности. В основном дети или пенсионеры. Пели и плясали. Играли баянисты и балалаечники. Но кино было интереснее всего. Смотрели по десять раз «Волгу-Волгу», «Весёлых ребят», «Детей капитана Гранта». Можно было бегать между рядами, свистеть, плеваться шелухой семечек и кричать главному герою: «Обернись! В тебя целятся!» Тогда, в шестилетнем, кажется, возрасте, я увидел фильм «Женитьба Бальзаминова». Скорее всего, почти ничего и не понял, но с тех пор Миша Бальзаминов, не считая Обломова, один из самых любимых моих литературных героев. Наверное, потому, что я и сам на него похож. По крайней мере, так утверждает моя мама. Ей виднее. Как хотите, но я б и сейчас издал указ, чтобы бедные женились на богатых, а богатые — на бедных. Конечно, получилось бы чёрт знает что, как это обычно у нас и получается. Богатые сейчас же стали бы взятки давать чиновникам из дворцов бракосочетаний, откупаясь от бедных невест и особенно женихов. Заключались бы фиктивные браки с бедными где-нибудь в районном загсе с выцветшими тюлевыми занавесками и тайные с богатыми в фешенебельном загсе на Канарах. Некоторые беднели бы нарочно. Ходили бы в рваных костюмах от Версаче и ездили на подержанных роллс-ройсах. Самые отчаянные из богатых и на преступления шли бы. Пусть хоть в тюрьму, но жениться только на богатой. Начались бы показательные суды над богатыми, не желающими жениться. Наши журналисты строчили бы душераздирающие статьи о том, что в какой-нибудь вологодской деревне местный олигарх уже оформил три брака с местными доярками и прижил от них кучу ребятишек, а сам тайно повенчан… Ну вот, опять включили свет. Не дают помечтать…