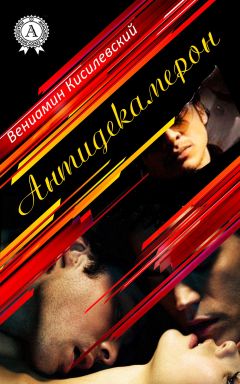Ознакомительная версия.
Говорю ей это, говорю, она меня не перебивает, молча выслушала мой пламенный монолог, иронично усмехнулась:
– Это ты говоришь так, потому что сам никогда в Одессе не жил. Наслышался какой-то бредятины, забил себе голову всякой ерундой. На Дюка Ришелье поглазеть он хочет! Ты бы лучше поглазел на всю эту жидовню, на все эти жидовские морды, послушал бы их пархатую речь! И везде они, куда ни сунься, нет от них спасения. Мне, когда и в школе, и в институте училась, противно было на занятия ходить. От одних этих фамилий тошнило. Это же не город, а сплошная синагога! Я бы наших девчонок, которые блудили с жидовскими парнями, собственными руками придушила, без жалости! Я уже не говорю о блуде – сдохла бы от отвращения, если бы один из них хоть прикоснулся ко мне…
Она еще много чего наговорила, а я настолько ошарашен был, что даже не перебивал ее, лишь таращился во всем глаза и воздух глотал. Наконец сумел заговорить:
– Чем же тебе евреи так насолили? Что такого плохого они тебе сделали, чтобы так их ненавидеть?
И услышал в ответ:
– А то плохое, что вообще они существуют, воздух поганят. И все беды славянского, русского народа из-за них, это же народ-вредитель, целью своей поставивший извести нас под корень, неужели ты не понимаешь?
– И что ты предлагаешь, – сам дивясь своему спокойствию, говорю ей, – перестрелять их или сжечь всех в газовых камерах, как намеревался твой любимый фюрер?
– Такие крайности не обязательны, – отвечает, – но пусть бы все они до единого убрались отсюда в свой картавый Израиль и там своим чесночищем воняли, воздух здесь не отравляли. Но все равно и там им не жить, изничтожат их арабы, в море утопят, ждать недолго осталось, вспомнишь мои слова!
Не поверите, мне вдруг даже интересно стало. Доводилось мне встречать самых махровых антисемитов, но с такой лютой ненавистью столкнулся впервые. От этого ее «чесночища» совсем обалдел. Говорю ей:
– Вообще-то, сомневаюсь, что в Одессе, как ты заявляешь, кругом евреи, ступить негде. Их и раньше-то, насколько мне известно, меньше пяти процентов было, а уж когда выезжать им разрешили, дай бог, чтобы один процент остался.
Она мне:
– Не знаю, сколько там процентов, мне и тех, которых каждый день вижу, по горло хватает. Не пойму, почему ты их защищаешь.
А у меня одна ее фраза в мозгах пульсирует: что сдохла бы от отвращения, если бы какой-нибудь еврей хотя бы прикоснулся к ней. Злость такая взяла, что желудок заныл. Сейчас, думаю, к тебе еврей прикоснется. Так прикоснется, что надолго запомнишь. А потом свой паспорт тебе покажу – тогда еще пятую графу из паспортов не убрали. И посмотрю, сдохнешь ты или не сдохнешь от отвращения. Пиджак я снял, когда только пришел, однако при галстуке, парад соблюдая, остался. Поднялся я, развязал его, потом рубашку снял, бросаю ей:
– Хватит рассиживаться, давай займемся тем, для чего пришли сюда. Раздевайся. – И начал брюки стаскивать.
Она удивлено на меня глядит, не ожидала такой кондовой прозы при поэтической свече, туманится:
– Какой-то ты вдруг стал…
– Каким был, таким и остался, – держусь невозмутимо. Стою перед нею голый, интересуюсь: – Твоя какая кровать, эта?
– Эта, – глазами моргает.
Я покрывало сбрасываю, ложусь, повторяю, чтобы не рассиживалась. Она посидела еще немного в замешательстве, затем, ни слова больше не произнеся, тоже раздеваться стала. Пристроилась рядышком, без всякого энтузиазма снова мне:
– Какой-то ты… – И попросила: – Не надо так со мной, Боренька, пожалуйста, все ведь у нас было так хорошо…
– Сейчас еще лучше будет, – обещаю. – Давно мечтал до прелестей твоих добраться.
И добираюсь. Так добираюсь, что постанывает она от боли, а я вскоре запаниковал. Ничего у меня не получается. Женщина роскошная, драгоценный подарок мужчине, а у меня и намека на возбуждение нет. Пытаюсь завести себя, из кожи вон лезу, но знаю уже, что лишь напрасно извожусь. Промучился еще немного, ее намучил, покинул кровать и одеваюсь. И всё это молча – ни я, ни она ни слова. Теперь она мне говорит:
– Не расстраивайся, такое со всеми случается, не велика беда. У нас еще ночь впереди, все образуется, поверь мне. Иди ко мне.
А я не отвечаю, продолжаю одеваться. И обида у меня такая, что не вообразить. Не столько на нее, сколько на себя. Подобного со мной прежде не случалось, но вовсе не из-за этого так огорчился. С тем и ушел. Рано утром, срока не дождавшись и документы не оформив, поспешил на вокзал. Дождался первого поезда, идущего в мою сторону, и укатил…
– Вот уж действительно на каждого мудреца как бы довольно простоты, – мыслительно изрек Корытко.
– Если бы только одной простоты, – сказал Дегтярев.
– Еще и потенции? – предположила Кузьминична.
– Да, сударыня, – хмыкнул Кручинин. – Именно это Лев Михайлович имел в виду. Ох уж этот Лев Михайлович! Лилечка, определите у него группу крови, вдруг она у Льва тоже положительная!
– Мне известна его группа крови, – не улыбнулась Лиля. – Он, если кто не знает, Почетный донор.
– Тогда, значит, мне определите. Я, между прочим, тоже донор, насдавался в отделении своей кровушки, зато появится у меня повод навестить вас. Надеюсь, не прогоните?
– Не прогоню, – сказала Лиля, поглядев на Дегтярева. И вдруг медленно начала заливаться румянцем.
А Лев Михайлович снова подумал, что так и не избавилась она от этой своей девичьей напасти. Покраснела оттого, что при всех заявила, что не прогонит Кручинина? Почему же при этом на него, Дегтярева, смотрела, словно ему эти слова адресовала? Чтобы приревновал он? Зачем ей? Вспомнила, как сошлись они в Мишкиной квартире? Захотела, чтобы он вспомнил? Опять же, зачем? Посылает ему какой-то сигнал? Через столько лет? Смешно даже подумать такое. Или не смешно? Откликнулся бы он, если бы позвала? Она, в которой не сразу признал он бывшую тоненькую сестричку. Зачем она волосы так нелепо красит? Неужели седеть начала? Хотя, почему бы нет? – тоже сороковник уже, небось, набежал. Привлекательности былой, правда, не утратила. Только иная теперь она, эта привлекательность, – вызревшая, округлившаяся, уверенная. Плечи, грудь, бедра спелостью налились, То-то Кручинин липнет к ней, слюни пускает. И не один Кручинин, скорей всего, – сексапильный она экземпляр. Как, интересно, у нее жизнь сложилась? Выглядит, во всяком случае, благополучно. Уже и Лилей называть ее неудобно, фамильярно получится, один Кручинин позволяет себе. Отчества ее не запомнил – Петровна, Павловна? Ни разу не заговорил с ней, потому и надобность не возникала. Так откликнулся бы или нет, если бы позвала? И неожиданно для себя сказал ей:
– Лилия Петровна, простите, если перепутал отчество, вы, наверное, тоже хотите нам что-то рассказать? – И это «нам» выделил. Другие наверняка не обратят внимание, а Лиля поймет, всегда смышленая была. И тут же подосадовал на себя: зачем навязывается, прошлое ворошит, намеки какие-то посылает? Все ведь давно быльем-мохом поросло. Или не поросло? – вот же и она, как девчонка, краснеет, и он сам неспокойным сделался с той минуты, как увидел ее, на Кручинина злится, как не было этих двух десятков лет…
– Да-да, Лилечка, – поддержал Кручинин. – Мы не уйдем отсюда, пока не услышим вашу исповедь, ночевать здесь останемся…
– Ночевать мы здесь не останемся. – Лиля, еще плотней зардевшись, направилась к креслу. Села, прижала к щекам ладони, словно остужая, опять посмотрела на Дегтярева:
– Почти никто тут не знает, а я ведь тоже прямое отношение к медицине имею. Сколько помню себя, хотела врачом быть, после школы в медицинский подалась, одного балла не добрала. Год не хотела терять, отнесла документы в медицинское училище. Если закончить его с красным дипломом, можно было сразу без экзаменов поступать в институт, два года отрабатывать не требовалось. Но и тут не по-моему вышло, хоть и училась я хорошо. Отомстил мне директор нашего училища, гад был тот еще, но не об этом сейчас речь. Получила я направление в хорошую больницу, но и там с самого начала не заладилось. Я хотела в глазное отделение, мечтала офтальмологом стать, очень мне эта профессия нравилась, а меня больничный кадровик в реанимацию отправил. Там, сказал, сестры нужны, в глазном вакансий нет. Не от меня зависело, пошла в реанимацию. Принял меня заведующий отделением, расспрашивать начал, а я вижу, что не глянулась ему. Зато он мне сразу понравился. Может, потому еще, что похож был на артиста Тихонова, в которого с детства влюблена была. И не только во внешности дело – что-то вдруг такое к этому доктору почувствовала, словами передать трудно, что-то мое, родное, близкое. Уходить от него не захотелось. А он брать меня не желает, пугает, что тяжело мне после училища будет, не справлюсь я. А я ему отвечаю, что всегда мечтала в реанимации работать, стремилась к этому. В общем, взял он меня, назад не отослал.
Приступила я к работе, поначалу в самом деле нелегко было, особенно, когда операционный день длинный и в ночные дежурства, но старалась изо всех сил. Когда хвалил он меня, на седьмом небе была от счастья. Но, конечно, никаких планов насчет него не строила, понимала, что мы несовместимы. Он доктор, намного старше, женат, дочки у него, да и в любом случае шансов у меня никаких не было. В нашем отделении все, наверное, тайно и не тайно были влюблены в него, и девицы не мне чета. Я тогда худющей была, пичужка такая, он на меня как на особу женского пола вообще внимания не обращал. Тут еще роль играло, что опыта у меня ни малейшего не было, мне до тех пор ни один парень по-настоящему не нравился, первая, можно сказать, любовь. Оставалось только вздыхать о нем по ночам и всякие фантастические истории придумывать, в которых влюблялся он в меня. Но когда начал он меня доченькой называть, окончательно удостоверилась я, что как женщина для него не существую.
Ознакомительная версия.