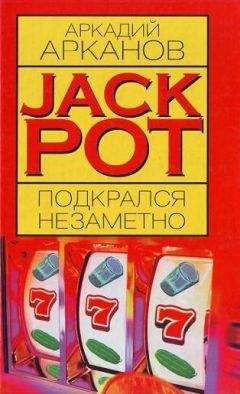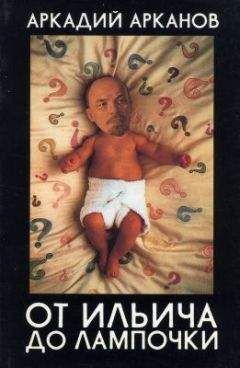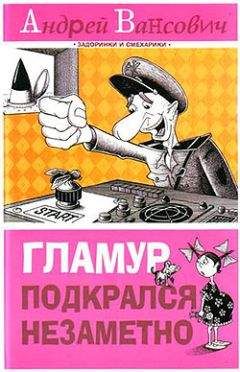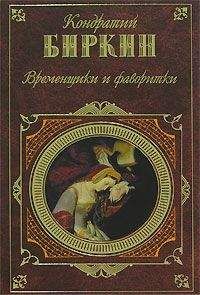— А что он хочет поймать?
— Джекпот! — таинственно произнес Колбаско. — Оптимальная выдача!
— Джекпот — это сокращенно Джек-Потрошитель, — засмеялся Вовец, довольный собственной шуткой.
— Типун тебе на великий могучий свободный русский язык, — испуганно отшатнулся Колбаско и перекрестился.
— А почему в зале только один директор зоопарка? — спросил Вовец.
— Это зал для пипла, — ответил Колбаско. — Настоящие игроки в «випе»… Пошли…
Перед дверью в «вип» стоял двухметровый охранник.
— Мы в «вип», — гордо отчеканил поэт. — У меня разрешение от хозяина. А это со мной.
— Да идите, вас никто не держит, — зевнул охранник и открыл дверь.
Вип-зал напоминал аэропорт, забитый пассажирами из-за многодневной задержки рейсов. Зал буквально кишел китайцами. В прокуренном воздухе звенело сплошное «янь! инь! юнь! мяо!», сквозь которое иногда прорывалась неописуемая матерная ругань с кавказским акцентом и русским многообразием.
— Почему так много китайцев? — изумился Вовец.
— А ты в Китае был? — спросил Колбаско.
— Нет.
— Так там еще больше…
К ним подошла длинноногая девушка в бикини.
— Что-нибудь закажете? — спросила она с улыбкой.
— Дарлинг! — сказал поэт. — Принеси-ка нам по двести грамм «Платинового стандарта».
— У вас карточки или за наличный расчет? — поинтересовалась девушка.
— Это мой гость! — грозно сказал Колбаско, указав на Вовца.
— А вы чей гость? — спросила девушка вежливо, но безразлично.
— Ты что, новенькая? — заорал Колбаско. — Я гость хозяина.
— Пойду спрошу у пит-босса, — сказала девушка и исчезла в китайской массе. Через короткое время она появилась с подносом, на котором стояли два стакана с водкой.
— То-то же, — гордо выдохнул Колбаско.
— Пит-босс разрешил принести вам «Гжелку», — доложила девушка, — но сказал, что это в последний раз. Вы уже и так задолжали.
— Совсем оборзели, — буркнул поэт, протягивая публицисту стакан…
Они выпили, давясь и морщась, и Колбаско стал протискиваться к своему любимому автомату с тремя птицами, а Вовец направился в туалет.
У входа в туалет стояла длинная очередь китайцев. Вовец пристроился за последним. Китаец повернулся к нему и, показав на очередь и отодвинув Вовца чуть назад, сказал:
— Янь инь тюнь пянь…
— Что пьянь? — не понял Вовец.
— Моя не пила пьянь! — замахал руками китаец. — Моя сань тинь пунь!
— Дунь, — миролюбиво сказал публицист.
Китаец дунул.
— Теперь плюнь, — попросил Вовец. Китаец плюнул.
— Фунь! — приказал Вовец, ничего не имея в виду.
Но китаец пукнул.
— Вонь! — брезгливо поморщился Вовец.
— Хань Вонь? — спросил китаец. — Твоя иссет Хань Вонь?.. Сейцяса! Сейцяса!.. Хань Вонь! Хань Вонь!
Через мгновенье откуда-то появился еще китаец и, протянув руку Вовцу представился: — Я Хань Вонь. А вы кто?
— Вовец, — вежливо поклонился публицист.
— Осенно приятно, — закивал китаец. — Вовеса! Сиказите, сто Хань Вонь будет за вами. Хоросё?
— Хоросё, — покорно согласился Вовец.
Когда он через сорок минут, выйдя из туалета, разыскал автомат с тремя птицами, Колбаско бил по клавише и причитал:
— Давайте, птичечки, давайте, маленькие, давайте, миленькие мои…
Барабаны завертелись, забурлюкали и, клацнув, замерли…
— Чтоб вы сдохли, порхатые вонючие! — заорал Колбаско. — Падлы горбоносые! Пидарасы говнокрылые!..
Вовцу показалось, что за эти сорок минут Колбаско постарел…
— Я пошел домой, — уже с трудом управляя языком, — сказал Вовец. — Давай бабки, которые я тебе одолжил…
— Ты что, серьезно?! — чуть не подавился Колбаско. — Я же на них играю!
Но Вовец настаивал:
— Ты их здесь засадишь, а мне жить не на что!
— Не засажу! Сегодня точно не засажу!
— А если ты сдохнешь за этим автоматом? — не уступал Вовец.
— Не сдохну! — клялся Колбаско. — Не сдохну!.. Ну хочешь, я сейчас завещание напишу!
— Ты что же, хочешь, чтоб я ждал твоей смерти? — заорал Вовец. Глаза его сделались бешеными, и он ткнул Колбаско в грудь.
Верзила, выполняющий предписание не допускать в «випе» конфликтов и драк, взял Вовца за плечи и поволок к выходу.
— Ноги моей больше не будет! — вырывался публицист. — Белого коня пришлете!..
Матерясь и проклиная все на свете, Вовец как мог добрался до дома, вошел в подъезд и сказал сам себе:
— Вот сяду сейчас в лифт и уеду куда глаза глядят…
Но лифт не работал.
К начавшемуся предутреннему просветлению ночи он наконец ввалился в квартиру. Чужие деревянные ноги абсолютно не слушались. Приходилось поочередно передвигать их обеими руками.
В комнате горел свет. На старом диване напротив работающего телевизора сидя храпела супруга. Вовец плюхнулся на стул и, тяжело дыша, заворчал:
— Совсем охамела… Ни тебе добрый вечер, ни поужинать…
Он вытащил из кармана смятые купюры полученной сегодня пенсии и, пересчитав, с ужасом обнаружил нехватку пятисот рублей…
— Странно, — подумал он вслух. — Куда они делись? Ведь я сегодня никуда не выходил… И не пил вроде бы… На почте обманули?.. Но ведь я сегодня никуда не выходил… Я получаю полторы тысячи, так?.. А здесь тысяча, так?.. Вот если бы я получал две тысячи, то оставалось бы полторы, так?.. И все равно не хватало бы пятисот рублей… Вот она, забота о пенсионерах… Не пойду голосовать… Ноги моей больше не будет… Белого коня пришлют…
Его размышления прервал бодрый, знакомый до боли голос Бананы Хлопстоз: «Компания „Хрен-тиви“ продолжает показ совместного испано-украинского сериала „Богатые тоже хочуть“. Напоминаем содержание предыдущих серий. Оксана понимает, что, с одной стороны, ее все время любит Хулио. И ей это нравится. Но, с другой стороны, ее любят Хесус Нечипоренко из Андалусии и Степан Кошмарио Крузейро из Мелитополя. И ей это не нравится. Смотрите развязку этого любовного четырехугольника…»
Камера панорамирует с только что отлюбившего Оксану Хулио, влезающего в синие шаровары, на тяжело дышащего Вовца и переходит на бескрайнее маковое поле. В стоге мака курят Степан Кошмарио Крузейро и Хесус Нечипоренко, передавая друг другу запретную пахитоску.
— Слухай, амиго, ты шо, сдурел, в натуре? Ты шо, не бачишь, шо Оксана втюхалась по самые брови в этого отморозка Хулио?
— А Хулио?
— А шо Хулио? Ему по тамбурину!
— Шо-то я, Крузейро, не догоняю.
— Я с тебя тащусь, Хесус!.. Короче, как балакають у нас в Андалусии, она его типа того, хочеть… Усёк?
— Мы с тобой, Крузейро, менты из Интерпола, в натуре, и наше дело — прищучить эту наркобаронессу…
Вовец впадает в забытье… Откуда-то издалека доносятся до него причитания Оксаны: «Нэнько Розария! Если я узнаю, что у Хулио мезальянс с Хесусом, я либо покончу в себя, либо наложу себе в руки!..»
Вовец с трудом открывает глаза на заключительных аккордах сериала и видит проплывающие снизу вверх по экрану титры: Русский перевод Дездемоны Тбилисян.
— Пихает свою дочурку где только можно, — зло бурчит Вовец, плюет в экран и выключает телевизор. Потом он поднимается со стула и, шатаясь, подходит к старинному зеркалу, доставшемуся ему по наследству от покойной матери.
Он смотрится в зеркало, и что-то настораживает его. Вовец рукавом протирает зеркало… Всё на месте… Отражается диван со спящей женой, стол, на столе — смятые купюры, дверь на балкон… И все-таки что-то не так… И вдруг он понимает, что не видит в зеркале свое собственное отражение!.. А где же он?..
— Где я? — исступленно кричит Вовец. — Где я?
Он трясет за плечо спящую сидя жену:
— Где я? Где я?
Но ее разбудить невозможно…
— Где я? Где я?..
И в этот момент откуда-то снизу, из-под балкона, слышит он отчетливое конское ржание. Из последних сил Вовец выходит на балкон и, опершись животом на перила, смотрит вниз. И на сером асфальте утреннего пустынного двора рядом с грязно-зеленым мусорным контейнером он видит неестественно белого коня с белой развевающейся гривой и белым хвостом. Конь призывно ржет и нетерпеливо бьет копытом по асфальту…
— Прислали-таки! — восхищенно шепчет Вовец. — Прислали!
Он медленно перевешивается через перила и летит вниз, распугивая своим криком черных ворон:
— Прислали!.. Прислали белого коня!.. Прислали!.. Присла…
Больше ноги его в Мухославске не было…
Чем больше окрашивался талант беспощадного сатирика Гайского в политические цвета, чем беспощаднее защищал он правых от левых, а левых от правых, чем нахальнее становилось его материальное благосостояние, тем страшнее было ему признаваться самому себе в угасании главного физиологического инстинкта, обоснованного еще Фрейдом, предававшегося анафеме в советские времена и окончательно узаконенного в поп-эстраде.